- 1978 Просмотров
- Обсудить

НИЦШЕ \ НИЦШЕ (10)\НИЦШЕ (9)\НИЦШЕ (8)\НИЦШЕ (7)\НИЦШЕ (6)
НИЦШЕ (5)\НИЦШЕ (4)\НИЦШЕ (3)\НИЦШЕ (2)\НИЦШЕ
Воля к власти (0) Воля к власти (2) Воля к власти (3) Воля к власти (4) Воля к власти (5)
Воля к власти (6) Воля к власти (7) Воля к власти (8) Воля к власти (9) Воля к власти (10)
ФИЛОСОФИЯ \ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА \ ПСИХОЛОГИЯ
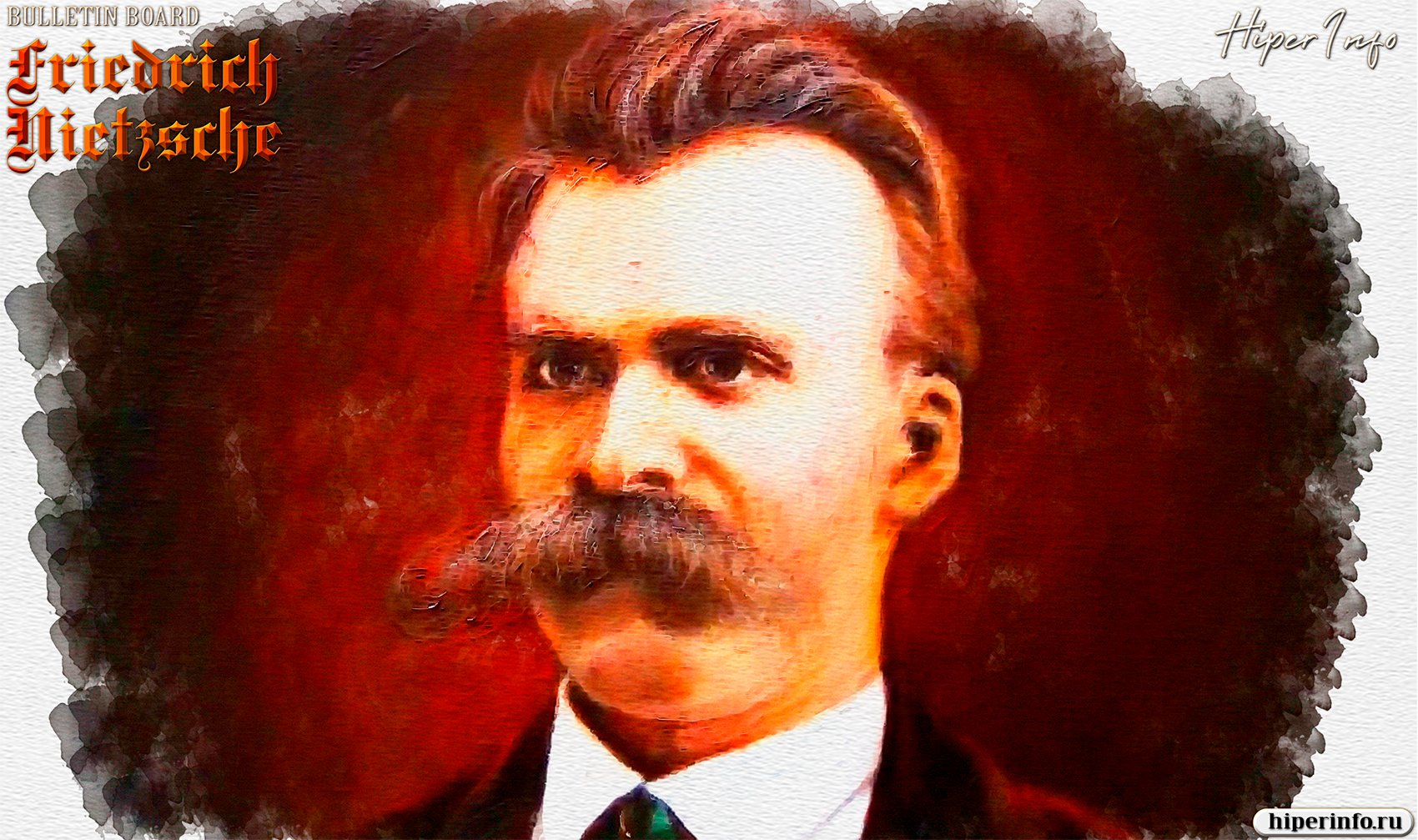
ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ГРУППА / ГРУППОВОЕ / КОЛЛЕКТИВ / КОЛЛЕКТИВНОЕ / СОЦИАЛЬНЫЙ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХИКА / ПСИХИЧЕСКИЙ / ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ / ПСИХОАНАЛИЗ
ФИЛОСОФИЯ / ЭТИКА / ЭСТЕТИКА / ФИЛОСОФ / ПСИХОЛОГ / ПОЭТ / ПИСАТЕЛЬ
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE / ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

НИЦШЕ / NIETZSCHE / ЕССЕ HOMO / ВОЛЯ К ВЛАСТИ / К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ / СУМЕРКИ ИДОЛОВ /
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА / ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА / ЗЛАЯ МУДРОСТЬ / УТРЕННЯЯ ЗАРЯ /
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ / СТИХИ НИЦШЕ / РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ




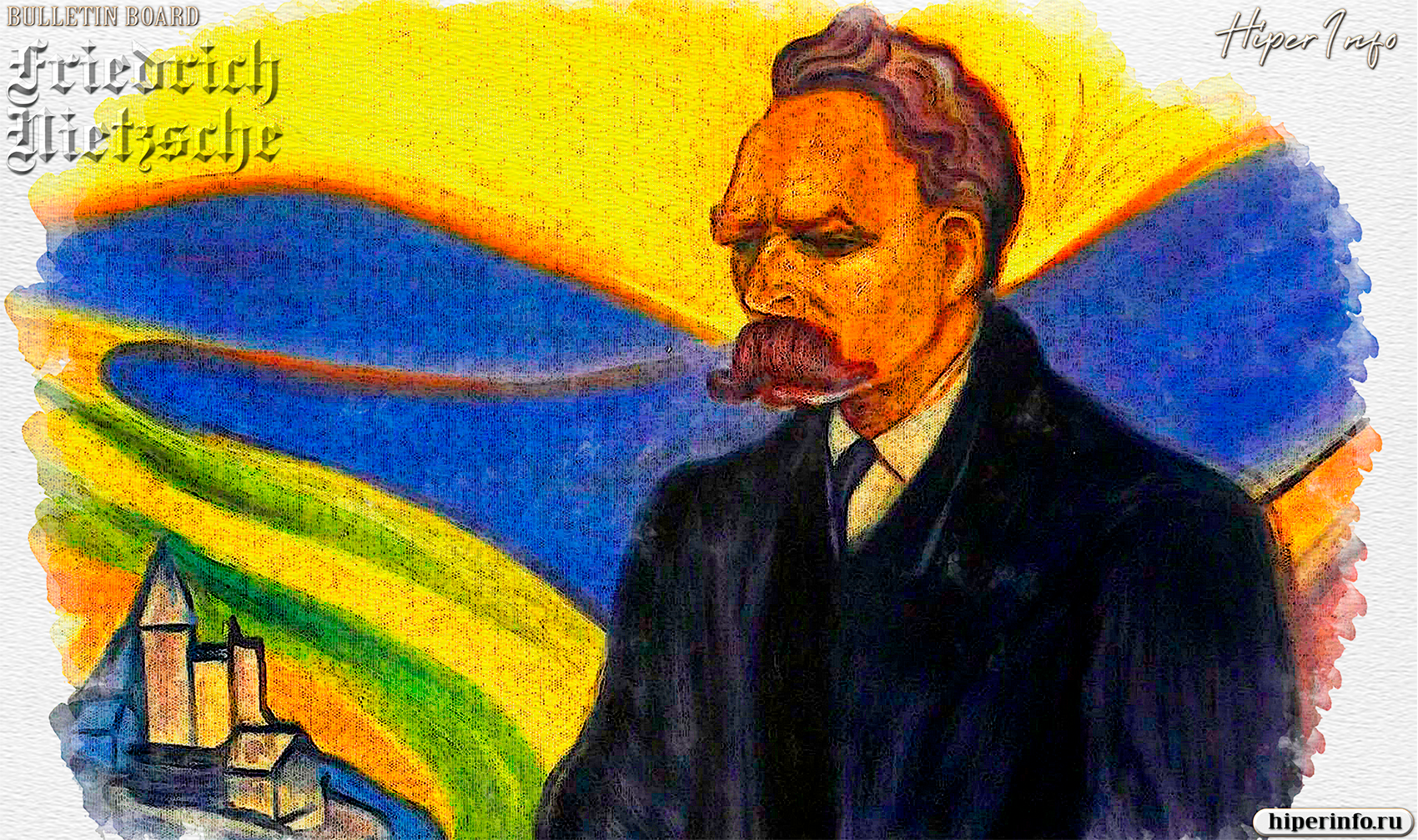




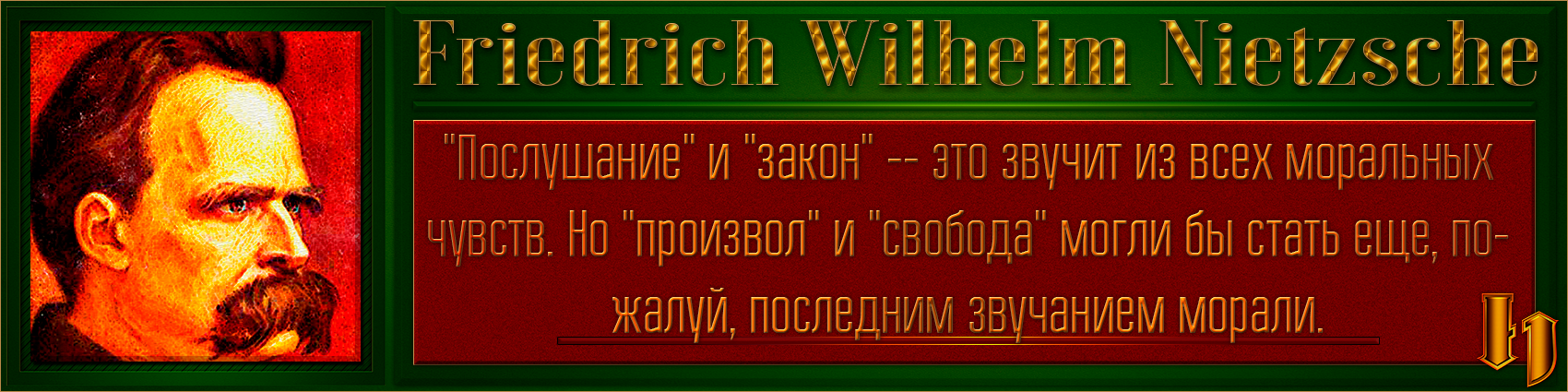


 Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше
ФРИДРИХ НИЦШЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
КНИГА ДЛЯ СВОБОДНЫХ УМОВ

139
В некоторых отношениях и аскет хочет облегчить себе жизнь: обыкновенно через полное подчинение себя чужой воле или всеобъемлющему закону и ритуалу; например, брамин ничего не предоставляет своему собственному решению и каждый свой шаг подчиняет священному предписанию. Это подчинение есть могучее средство, чтобы овладеть собою; человек занят, следовательно, не скучает и вместе с тем не имеет повода для проявления своей личной воли или страсти; совершенное деяние не влечет за собой чувства ответственности и связанных с ним мук раскаяния. Человек отрекается раз навсегда от своей воли, и это легче, чем иногда при случае отрекаться от нее; подобно тому как легче совсем отказаться от какого-либо вожделения, чем соблюдать в нем меру. Если мы обратим внимание на современное отношение человека к государству, то мы и здесь увидим, что безусловное повиновение удобнее, чем условное. Итак, святой облегчает себе жизнь такой полной отдачей своей личности, и было бы ошибкой смотреть на это явление с изумлением, как на высший героический подвиг нравственности. Во всяком случае, осуществлять без колебаний и неясности свою личность труднее, чем отрешиться от нее указанным способом; кроме того, осуществление это требует гораздо большего ума и размышления.
140
После того как во многих труднообъяснимых поступках я нашел проявления удовольствия отэмоции самой по себе, мне хотелось бы и в отношении самопрезрения, которое принадлежит к признакам святости, а также в действиях самоистязания (через голод и бичевание, вывих членов и симуляцию безумия) видеть средство, с помощью которого такие натуры борются с общей усталостью своей жизненной воли (своих нервов); они пользуются самыми мучительными раздражающими средствами и жестокостями, чтобы хоть на время очнуться от того отупения и скуки, в которые они так часто впадают в силу своей духовной бесчувственности и указанного подчинения чужой воле.
141
Наиболее обычное средство, которое применяет аскет и святой, чтобы сделать свою жизнь все же выносимой и занимательной, состоит в ведении войн и в смене победы и поражения. Для этого ему нужен противник, и он находит его в так называемом внутреннем враге. В особенности он пользуется своим влечением к тщеславию, свои честолюбием и властолюбием, а также своими чувственными вожделениями, чтобы превратить собственную жизнь в длительную битву и рассматривать самого себя как поле битвы, на котором с переменным успехом борются добрые и злые духи. Как известно, чувственная фантазия умеряется и даже почти подавляется при правильных половых сношениях и, наоборот, разнуздывается и дичает при воздержании или беспорядочных сношениях. Фантазия многих христианских святых была необычайно загрязнена; в силу теории, что эти вожделения суть действительные демоны, буйствующие в них, они не чувствовали себя при этом особенно ответственными; этому чувству мы обязаны столь поучительной откровенностью их признаний. В их интересах было, чтобы эта борьба в известной мере постоянно поддерживалась, ибо она, как сказано, делала занимательной их пустынную жизнь. Но чтобы борьба казалась достаточно важной и возбуждала постоянное участие и изумление у несвятых, нужно было все более хулить и позорить чувственность; и опасность вечного проклятия была так тесно связана с этой областью, что, по всей вероятности, в течение целых эпох христиане имели нечистую совесть при зачатии детей, чем был, несомненно, нанесен большой вред человечеству. И все же истина поставлена здесь вверх ногами – что особенно не подобает истине. Правда, христианство сказало: каждый человек зачат и рожден в грехе, и в невыносимо преувеличенном христианстве Кальдерона эта мысль снова связалась в узел и укрепилась, так что он осмелился высказать самый извращенный парадокс, какой только можно себе представить, в известных стихах:
Величайшая вина человека –
Есть то, что он родился.
Во всех пессимистических религиях акт зачатия ощущается как нечто дурное, но это ощущение ни в коем случае не имеет общечеловеческого значения, и даже не все пессимисты сходятся в своем суждении об этом.. Эмпедокл, например, ничего не знает о постыдном, дьявольском, греховном во всех эротических делах; напротив, в великой юдоли бедствий он видит одно только целительное и утешительное явление – Афродиту; она есть для него залог, что борьба не будет длиться вечно, а некогда уступит власть более кроткому демону. Христианские пессимисты-практики, как сказано, были заинтересованы в том, чтобы сохранило господство иное мнение; в своем одиночестве и при духовной опустошенности своей жизни они постоянно нуждались в живом враге – и притом во враге, пользующемся всеобщим признанием, борьба и одоление которого должны были в глазах всех несвятых делать их полунепостижимыми, сверхъестественными существами. Когда этот враг наконец, вследствие их образа жизни и разрушенного здоровья, был навсегда обращен в бегство, они тотчас же смогли видеть свою душу населенной новыми демонами . Колебание высокомерия и смирения на чашах душевных весов занимало их мудрствующие головы так же основательно, как смена вожделения и душевного покоя. В то время психология служила для того, чтобы не только подозревать все человеческое, но чтобы клеветать на него, бичевать и распинать его: люди хотелинаходить себя как можно более дурными и злыми, искали страха в связи со спасением души, отчаяния в своих силах. Все естественное, чему человек навязывает представление дурного, греховного (как он привык еще и теперь делать это в отношении эротического момента), отягощает, омрачает воображение, создает пугливый взор, заставляет человека враждовать с самим собой и делает его неуверенным и недоверчивым; даже его сны приобретают привкус измученной совести. И все же это страдание от естественного совершенно не основано на самой природе вещей: оно есть лишь следствие мнений о вещах. Легко понять, как люди портятся благодаря тому, что они называют дурным неизбежно естественное и позднее ощущают его таковым. Религия и те метафизики, которые хотели бы видеть человека злым и греховным по при роде, пускают в ход эту уловку: они чернят природу в его сознании и тем делают его самого дурным, ибо он научается ощущать себя дурным, так как не может снять с себя одеяние природы. Постепенно, при долгой жизни в при родном элементе, он чувствует себя подавленным таким бременем грехов, что нужны сверхъестественные силы, чтобы снять с него это бремя; и тем самым на сцену выступает рассмотренная уже потребность в спасении, которая соответствует совсем не действительной, а лишь воображаемой греховности. Просматривая отдельные моральные утверждения в источниках христианского мировоззрения, мы всюду найдем, что сознательно ставятся чрезмерные требования, для того чтобы человек не мог удовлетворить им: цель этих требований не в том, чтобы человек становился более нравственным, а в том, чтобы он чувствовал себя возможно более греховным. Если бы человеку не было приятно это чувство, - для чего бы он создал такое представление и так долго держался его? Подобно тому как в античном мире была затрачена неизмеримая сила духа и изобретательности, чтобы посредством торжественных культов увеличить радость жизни, - так в эпоху христианства равным образом было посвящено неизмеримо много духа иному стремлению: человека нужно было всеми мерами заставить чувствовать себя греховным и тем вообще возбудить, оживить, одухотворить его. Возбудить, оживить, одухотворить во что бы то ни стало – не есть ли это лозунг эпохи ослабевшей, перезрелой, переразвитой культуры? Круг всех естественных ощущений был уже сотни раз испытан, душа утомилась ими; тогда святой и аскет открыли новый род жизненных побуждений. Они становились перед взорами всех не столько в качестве примера для подражания, сколько в качестве страшного и все же восхитительного зрелища, которое разыгрывается на грани между здешним и нездешним мирами, где каждый в ту пору мнил видеть то лучи небесного света, то грозные, исходящие из подземных глубин языки пламени. Взор святого, обращенный на страшный во всех отношениях смысл краткой земной жизни, на близость последнего решения о бесконечных новых этапах жизни, этот обугливающий взор в полуразрушенном теле заставлял людей старого мира трепетать до последних глубин души; взглянуть украдкой, отвернуться с содроганием, снова почуять сладость зрелища, отдаться ему, насытиться им, пока душа не затрепещет в огне и морозе лихорадки, - это было последним удовольствием, которое нашла древность, после того как она стала нечувствительной даже к зрелищу борьбы людей и зверей.
142
Я подвожу итоги сказанному: то душевное состояние, которое присуще святому или стоящему на пути к святости, слагается из элементов, хорошо известных нам всем; но только под влиянием иных, не религиозных, представлений они обнаруживают иную окраску и тогда обыкновенно навлекают на себя даже порицание людей, тогда как, отороченные религией и конечным смыслом существования, они могут рассчитывать на восхищение и даже поколение – по крайней мере могли рассчитывать в прежние времена. Святой либо упражняет то упорство в борьбе с самим собой, которое весьма родственно властолюбию и дает даже самому одинокому человеку ощущение могущества; либо его воспаленное чувство переходит от желания дать простор своим страстям к желанию обуздать их, как диких коней, под могучим давлением гордой души; либо он стремится к прекращению всех нарушающих покой, мучительных, раздражающих ощущений, к сну наяву, к длительному отдыху на лоне тупой, животной и растительной бесчувственности; либо он ищет борьбы и разжигает ее в себе, потому что скука являет ему свое зевающее лицо: он бичует свое самообожествление самопрезрением и жестокостью, он наслаждается диким бунтом своих страстей, острой скорбью греха, даже представлением своей гибели; он умеет ставить западню своему аффекту, например, внешнему властолюбию, так что последнее переходит в состояние величайшего унижения, и возбужденная душа святого выбрасывается этим контрастом из своей колеи; и наконец, если он жаждет видений, бесед с мертвецами или божественными существами, то он стремится в сущности лишь к редкому роду сладострастия – но, быть может, к тому сладострастию, в котором, как в узле, связаны все иные его роды. Новалис, один из авторитетов в вопросах святости на основании личного опыта и инстинкта, с наивной радостью высказывает однажды всю ее тайну: "Весьма удивительно, что ассоциация сладострастия, религии и жестокости не обратила внимания людей уже давно на их тесное сродство и общую тенденцию”.
143
Не то, что есть святой, а то, что он означает в глазах несвятых, придает ему его всемирно-историческую ценность. Благодаря тому что о нем заблуждались, ложно истолковывали его душевные состояния и самым решительным образом выделяли его из числа остальных людей, как нечто безусловно несравнимое и чужеродно-сверхчеловеческое, - благодаря этому он приобрел ту исключительную силу, с помощью которой он мог владеть воображением целых народов и эпох. Он сам не знал себя; он сам понимал письмена своих настроений, влечений, поступков согласно искусству толкования, которое было столь же натянуто и неестественно, как пневматическое толкование Библии. Бестолковое и больное в его натуре, с ее сочетанием духовной нищеты, плохого знания, испорченного здоровья, чрезмерно раздраженных нервов, оставалось скрытым для его собственного взора, как и для взора посторонних наблюдателей. Он не был особенно добрым человеком и еще менее был особенно мудрым человеком; но он означал нечто, что по благости и мудрости превосходит всякую человеческую меру. Вера в него укрепляла веру в божественное и чудесное, в религиозный смысл всего бытия, в предстоящий день последнего суда. В вечернем блеске закатывающегося солнца мира, которое сияло над христианскими народами, тень святого вырастала до чудовищных размеров; она достигла такой высоты, что даже в наше время, уже не верующее в Бога, находятся еще мыслители, которые веруют в святого.
144
Само собою разумеется, что этому портрету святого, который набросан по среднему экземпляру всего типа, можно противопоставить иные рисунки, которые способны произвести более приятное впечатление. Отдельные исключения из этого типа выделяются либо особой кротостью и благожелательностью к людям, либо очарованием необычайной действенной силы; другие в высшей степени привлекательны, потому что известные фантастические представления изливают на все их существо потоки света, как это, например, имеет место с прославленным основателем христианства, считавшим себя единорожденным Сыном Божьим и оттого чувствовавшим себя безгрешным; так что он силою воображения – о котором не следует судить слишком сурово, так как вся древность кишмя кишела сыновьями Божьими, - достиг той же цели, чувства полной безгрешности, полной безответственности, которое сегодня посредством науки доступно каждому. – Точно так же я отвлекся от индусских святых, которые стоят на промежуточной ступени между христианским святым и греческим философом и в этом смысле не представляют чистого типа; познание, наука – поскольку таковая существовала, - возвышение над другими людьми через логическую дисциплину и воспитание мышления считались у буддистов ценными, как признаки святости, тогда как те же самые качества в христианском мире отвергались и объявлялись еретическими, как признаки греховности.
ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ:
ИЗ ДУШИ ХУДОЖНИКОВ И ПИСАТЕЛЕЙ
145
Мнимая изначальность совершенного.
Мы привыкли не ставить вопроса о возникновении всего совершенного, а, наоборот, наслаждаться его настоящим состоянием, как если бы оно выросло из земли по мановению волшебства. Вероятно, на нас действует здесь еще остаток первобытного мифологического ощущения. Нампочти кажется (например, когда мы созерцаем греческий храм вроде пестумского), что некий бог, играя, построил себе однажды утром жилище из таких огромных тяжестей; в других случаях нам мнится, будто душа была внезапно вколдована в камень и теперь хочет говорить через него. Художник знает, что его произведение оказывает полное действие, лишь когда оно возбуждает веру в импровизацию, в чудесную внезапность возникновения; поэтому он при случае сознательно содействует этой иллюзии и вводит в искусство элементы вдохновенного беспокойства, слепого беспорядка, чуткой грезы при начале творения – в качестве средств обмана, которые должны настроить душу зрителя или слушателя так, чтобы она верила во внезапное появление совершенного. – Теория искусства, разумеется, должна самым решительным образом восстать против этой иллюзии и показать те ложные умозаключения и дурные привычки разума, в силу которых он попадается в сети художника.
146
Чувство правды у художника.
Художник имеет более слабую нравственность в отношении познания истины, чем мыслитель; он отнюдь не хочет лишиться права на блестящие, глубокомысленные истолкования жизни и борется против трезвых, простых методов и выводов. Внешне он ратует за высшее достоинство и значение человека; в действительности же он не намерен отказаться от условий, при которых его искусство может производить наибольшее впечатление, - т.е. от всего фантастического, мифического, неверного, крайнего, от влечения к символам, от переоценки личности и веры в какую-то чудесную природу гения; он, следовательно, считает сохранение своей манеры творчества более важным, чем научная преданность истинному во всякой, хотя бы и в самой непритязательной, его форме.
147
Искусство как заклинатель мертвых.
Искусство исполняет, между прочим, задачу консервирования, а также некоторого разукрашивания погасших, потускневших представлений; разрешая эту задачу, оно плетет связующую нить между различными эпохами и заставляет возвращаться духов прежних времен. Правда, здесь возникает лишь кажущаяся жизнь, как над могилами или как возвращение любимых усопших во сне; но по крайней мере на мгновение еще раз просыпается старое ощущение, и сердце бьется по уже позабытому такту. Памятуя эту общую пользу искусства, нужно относиться снисходительно к самому художнику, если он не стоит в первых рядах просвещения и прогрессивного омужествления человечества: он на всю жизнь остался ребенком или юношей и задержался на той позиции, в которой им завладели его художнические инстинкты; но ощущения первых ступеней жизни, как известно, стоят ближе к ощущениям прошедших эпох, чем к ощущениям нынешнего века. Непроизвольно его задачей становится делать человечество более ребяческим; в этом – его слава и его ограниченность.
148
Поэты как облегчители жизни.
Поэты – поскольку и они хотят облегчить жизнь людей – либо отвращают свой взор от тягостного настоящего, либо помогают настоящему приобрести новые краски посредством света, которым они заставляют излучаться прошедшее. Чтобы иметь возможность делать это, они должны сами быть в известных отношениях существами, обращенными назад; так что ими можно пользоваться как мостами к отдаленнейшим временам и представлениям, к отмирающим или уже отмершим религиям и культурам. Они, собственно, всегда и неизбежно суть эпигоны. Впрочем, об их средствах облегчения жизни можно сказать кое-что неблагоприятное: они успокаивают и исцеляют только временно, только на мгновение; они даже задерживают людей в работе над действительным улучшением условий жизни, устраняя или паллиативно облегчая страсти неудовлетворенного, влекущие к действию.
149
Медленная стрела красоты.
Самый благородный вид красоты есть тот, который не сразу захватывает, который овладевает не бурным упоением (такая красота легко возбуждает отвращение), а тот медленно вливающийся вид красоты, который почти незаметно уносишь с собой, который потом иногда снова встречаешь во сне и который, наконец, после того как он долго скромно лежал в нашем сердце, всецело овладевает нами, наполняет наши глаза слезами и наше сердце – тоской. – К чему стремимся мы, созерцая красоту? К тому, чтобы быть прекрасными; нам мнится, с этим должно быть связано много счастья. – Но это есть заблуждение.
150
Одушевление искусства.
Искусство подымает главу, когда религии приходят в упадок. Оно перенимает множество порожденных религией чувств и настроений, согревает их у своего сердца и становится теперь само более глубоким, одухотворенным, так что способно сообщать воодушевление и возвышенное настроение, чего оно еще не могло делать раньше. Возрастающее богатство религиозного чувства становится потоком, который постоянно прорывается наружу и хочет завоевать все новые области; но растущее просвещение поколебало догматы религии и внушило основательное недоверие к ней; поэтому чувство, вытесненное просвещением из религиозной сферы, устремляется в искусство; в отдельных случаях также в политическую жизнь, а иногда даже прямо в науку. Всюду, где в человеческих стремлениях заметна более возвышенная и мрачная окраска, можно предполагать налет духобоязни, запах ладана и тень церквей.
151
Чем украшает ритм.
Ритм накладывает туманное покрывало на реальность; он побуждает к некоторой искусственности речи и нечистоте мышления; тень, которую он набрасывает на мысль, то закрывает, то подчеркивает явления. Как тени нужны для украшения, так "смутное” нужно для большей отчетливости. – Искусство делает выносимым вид жизни, окутывая ее дымкой нечистого мышления.
152
Искусство безобразной души.
Искусству ставят слишком тесные границы, если требуют, чтобы в нем имела право высказываться только упорядоченная, нравственно уравновешенная душа. Как в пластических искусствах, так и в музыке и поэзии существует искусство безобразной души наряду с искусством прекрасной души; и самые могущественные действия искусства – умение потрясать души, заставлять камни двигаться и превращать зверей в людей – быть может, лучше всего удавались именно этому роду искусства.
153
Искусство причиняет скорбь мыслителю.
Насколько сильна метафизическая потребность и как трудно дается природе последнее расставание с ней, можно усмотреть из того, что даже в свободном уме, когда он уже освободился от всего метафизического, высшие художественные впечатления легко вызывают созвучное дрожание давно онемевшей и даже разорванной метафизической струны; например, внимая Девятой симфонии Бетховена, он чувствует себя витающим над землей в звездном храме с мечтоюбессмертия в сердце; звезды как бы сияют вокруг него, и земля опускается все ниже. – Когда он отдает себе отчет в этом состоянии, он чувствует глубокий укол в сердце и вздыхает о человеке, который вернул бы ему утраченную возлюбленную – называется ли она метафизикой или религией. В такие мгновения проверяется его интеллектуальный характер.
154
Играть жизнью.
Легкость и ветреность гомеровской фантазии была нужна, чтобы ослабить и на время уничтожить чрезмерно страстный дух и слишком острый рассудок греков. Когда у них говорит рассудок – сколь грубой и жестокой является тогда жизнь! Они не обманываются, но они сознательно украшают жизнь ложью. Симонид советовал своим соотечественникам принимать жизнь как игру; скорбь серьезности была им слишком хорошо известна (людское горе есть ведь тема песен, которым так охотно внемлют боги), и они знали, что одно только искусство может даже горе превращать в наслаждение. Но в наказание за этой убеждение ими настолько овладела страсть к выдумкам, что и в повседневной жизни им было трудно освободиться от лжи и обмана; ведь вся порода поэтов чувствует склонность ко лжи и, вдобавок, еще ощущает ее невинность. Эта черта, вероятно, приводила иногда в отчаяние соседние грекам народы.
155
Вера во вдохновение.
Художники заинтересованы в том, чтобы люди верили во внезапные озарения, в так называемое вдохновение; как если бы идея художественного или поэтического произведения, основная мысль философской системы сходила с неба в виде света благодати. В действительности фантазия хорошего художника или мыслителя творит постоянно хорошее, посредственное и плохое, но его острое и опытное суждение отвергает, выбирает, сочетает, как это видно теперь из записных книжек Бетховена, который постепенно составлял свои великолепнейшие мелодии и как бы отбирал их из многообразных набросков. Кто различает менее строго и охотно отдается воспроизводящему воспоминанию, тот при случае может стать великим импровизатором, но художественная импровизация стоит весьма низко по сравнению с упорно и серьезно проверенной художественной мыслью. Все великие гении были великими работниками; они не только неутомимо изобретали, но и неутомимо отвергали, проверяли, совершенствовали, упорядочивали.
В некоторых отношениях и аскет хочет облегчить себе жизнь: обыкновенно через полное подчинение себя чужой воле или всеобъемлющему закону и ритуалу; например, брамин ничего не предоставляет своему собственному решению и каждый свой шаг подчиняет священному предписанию. Это подчинение есть могучее средство, чтобы овладеть собою; человек занят, следовательно, не скучает и вместе с тем не имеет повода для проявления своей личной воли или страсти; совершенное деяние не влечет за собой чувства ответственности и связанных с ним мук раскаяния. Человек отрекается раз навсегда от своей воли, и это легче, чем иногда при случае отрекаться от нее; подобно тому как легче совсем отказаться от какого-либо вожделения, чем соблюдать в нем меру. Если мы обратим внимание на современное отношение человека к государству, то мы и здесь увидим, что безусловное повиновение удобнее, чем условное. Итак, святой облегчает себе жизнь такой полной отдачей своей личности, и было бы ошибкой смотреть на это явление с изумлением, как на высший героический подвиг нравственности. Во всяком случае, осуществлять без колебаний и неясности свою личность труднее, чем отрешиться от нее указанным способом; кроме того, осуществление это требует гораздо большего ума и размышления.
140
После того как во многих труднообъяснимых поступках я нашел проявления удовольствия отэмоции самой по себе, мне хотелось бы и в отношении самопрезрения, которое принадлежит к признакам святости, а также в действиях самоистязания (через голод и бичевание, вывих членов и симуляцию безумия) видеть средство, с помощью которого такие натуры борются с общей усталостью своей жизненной воли (своих нервов); они пользуются самыми мучительными раздражающими средствами и жестокостями, чтобы хоть на время очнуться от того отупения и скуки, в которые они так часто впадают в силу своей духовной бесчувственности и указанного подчинения чужой воле.
141
Наиболее обычное средство, которое применяет аскет и святой, чтобы сделать свою жизнь все же выносимой и занимательной, состоит в ведении войн и в смене победы и поражения. Для этого ему нужен противник, и он находит его в так называемом внутреннем враге. В особенности он пользуется своим влечением к тщеславию, свои честолюбием и властолюбием, а также своими чувственными вожделениями, чтобы превратить собственную жизнь в длительную битву и рассматривать самого себя как поле битвы, на котором с переменным успехом борются добрые и злые духи. Как известно, чувственная фантазия умеряется и даже почти подавляется при правильных половых сношениях и, наоборот, разнуздывается и дичает при воздержании или беспорядочных сношениях. Фантазия многих христианских святых была необычайно загрязнена; в силу теории, что эти вожделения суть действительные демоны, буйствующие в них, они не чувствовали себя при этом особенно ответственными; этому чувству мы обязаны столь поучительной откровенностью их признаний. В их интересах было, чтобы эта борьба в известной мере постоянно поддерживалась, ибо она, как сказано, делала занимательной их пустынную жизнь. Но чтобы борьба казалась достаточно важной и возбуждала постоянное участие и изумление у несвятых, нужно было все более хулить и позорить чувственность; и опасность вечного проклятия была так тесно связана с этой областью, что, по всей вероятности, в течение целых эпох христиане имели нечистую совесть при зачатии детей, чем был, несомненно, нанесен большой вред человечеству. И все же истина поставлена здесь вверх ногами – что особенно не подобает истине. Правда, христианство сказало: каждый человек зачат и рожден в грехе, и в невыносимо преувеличенном христианстве Кальдерона эта мысль снова связалась в узел и укрепилась, так что он осмелился высказать самый извращенный парадокс, какой только можно себе представить, в известных стихах:
Величайшая вина человека –
Есть то, что он родился.
Во всех пессимистических религиях акт зачатия ощущается как нечто дурное, но это ощущение ни в коем случае не имеет общечеловеческого значения, и даже не все пессимисты сходятся в своем суждении об этом.. Эмпедокл, например, ничего не знает о постыдном, дьявольском, греховном во всех эротических делах; напротив, в великой юдоли бедствий он видит одно только целительное и утешительное явление – Афродиту; она есть для него залог, что борьба не будет длиться вечно, а некогда уступит власть более кроткому демону. Христианские пессимисты-практики, как сказано, были заинтересованы в том, чтобы сохранило господство иное мнение; в своем одиночестве и при духовной опустошенности своей жизни они постоянно нуждались в живом враге – и притом во враге, пользующемся всеобщим признанием, борьба и одоление которого должны были в глазах всех несвятых делать их полунепостижимыми, сверхъестественными существами. Когда этот враг наконец, вследствие их образа жизни и разрушенного здоровья, был навсегда обращен в бегство, они тотчас же смогли видеть свою душу населенной новыми демонами . Колебание высокомерия и смирения на чашах душевных весов занимало их мудрствующие головы так же основательно, как смена вожделения и душевного покоя. В то время психология служила для того, чтобы не только подозревать все человеческое, но чтобы клеветать на него, бичевать и распинать его: люди хотелинаходить себя как можно более дурными и злыми, искали страха в связи со спасением души, отчаяния в своих силах. Все естественное, чему человек навязывает представление дурного, греховного (как он привык еще и теперь делать это в отношении эротического момента), отягощает, омрачает воображение, создает пугливый взор, заставляет человека враждовать с самим собой и делает его неуверенным и недоверчивым; даже его сны приобретают привкус измученной совести. И все же это страдание от естественного совершенно не основано на самой природе вещей: оно есть лишь следствие мнений о вещах. Легко понять, как люди портятся благодаря тому, что они называют дурным неизбежно естественное и позднее ощущают его таковым. Религия и те метафизики, которые хотели бы видеть человека злым и греховным по при роде, пускают в ход эту уловку: они чернят природу в его сознании и тем делают его самого дурным, ибо он научается ощущать себя дурным, так как не может снять с себя одеяние природы. Постепенно, при долгой жизни в при родном элементе, он чувствует себя подавленным таким бременем грехов, что нужны сверхъестественные силы, чтобы снять с него это бремя; и тем самым на сцену выступает рассмотренная уже потребность в спасении, которая соответствует совсем не действительной, а лишь воображаемой греховности. Просматривая отдельные моральные утверждения в источниках христианского мировоззрения, мы всюду найдем, что сознательно ставятся чрезмерные требования, для того чтобы человек не мог удовлетворить им: цель этих требований не в том, чтобы человек становился более нравственным, а в том, чтобы он чувствовал себя возможно более греховным. Если бы человеку не было приятно это чувство, - для чего бы он создал такое представление и так долго держался его? Подобно тому как в античном мире была затрачена неизмеримая сила духа и изобретательности, чтобы посредством торжественных культов увеличить радость жизни, - так в эпоху христианства равным образом было посвящено неизмеримо много духа иному стремлению: человека нужно было всеми мерами заставить чувствовать себя греховным и тем вообще возбудить, оживить, одухотворить его. Возбудить, оживить, одухотворить во что бы то ни стало – не есть ли это лозунг эпохи ослабевшей, перезрелой, переразвитой культуры? Круг всех естественных ощущений был уже сотни раз испытан, душа утомилась ими; тогда святой и аскет открыли новый род жизненных побуждений. Они становились перед взорами всех не столько в качестве примера для подражания, сколько в качестве страшного и все же восхитительного зрелища, которое разыгрывается на грани между здешним и нездешним мирами, где каждый в ту пору мнил видеть то лучи небесного света, то грозные, исходящие из подземных глубин языки пламени. Взор святого, обращенный на страшный во всех отношениях смысл краткой земной жизни, на близость последнего решения о бесконечных новых этапах жизни, этот обугливающий взор в полуразрушенном теле заставлял людей старого мира трепетать до последних глубин души; взглянуть украдкой, отвернуться с содроганием, снова почуять сладость зрелища, отдаться ему, насытиться им, пока душа не затрепещет в огне и морозе лихорадки, - это было последним удовольствием, которое нашла древность, после того как она стала нечувствительной даже к зрелищу борьбы людей и зверей.
142
Я подвожу итоги сказанному: то душевное состояние, которое присуще святому или стоящему на пути к святости, слагается из элементов, хорошо известных нам всем; но только под влиянием иных, не религиозных, представлений они обнаруживают иную окраску и тогда обыкновенно навлекают на себя даже порицание людей, тогда как, отороченные религией и конечным смыслом существования, они могут рассчитывать на восхищение и даже поколение – по крайней мере могли рассчитывать в прежние времена. Святой либо упражняет то упорство в борьбе с самим собой, которое весьма родственно властолюбию и дает даже самому одинокому человеку ощущение могущества; либо его воспаленное чувство переходит от желания дать простор своим страстям к желанию обуздать их, как диких коней, под могучим давлением гордой души; либо он стремится к прекращению всех нарушающих покой, мучительных, раздражающих ощущений, к сну наяву, к длительному отдыху на лоне тупой, животной и растительной бесчувственности; либо он ищет борьбы и разжигает ее в себе, потому что скука являет ему свое зевающее лицо: он бичует свое самообожествление самопрезрением и жестокостью, он наслаждается диким бунтом своих страстей, острой скорбью греха, даже представлением своей гибели; он умеет ставить западню своему аффекту, например, внешнему властолюбию, так что последнее переходит в состояние величайшего унижения, и возбужденная душа святого выбрасывается этим контрастом из своей колеи; и наконец, если он жаждет видений, бесед с мертвецами или божественными существами, то он стремится в сущности лишь к редкому роду сладострастия – но, быть может, к тому сладострастию, в котором, как в узле, связаны все иные его роды. Новалис, один из авторитетов в вопросах святости на основании личного опыта и инстинкта, с наивной радостью высказывает однажды всю ее тайну: "Весьма удивительно, что ассоциация сладострастия, религии и жестокости не обратила внимания людей уже давно на их тесное сродство и общую тенденцию”.
143
Не то, что есть святой, а то, что он означает в глазах несвятых, придает ему его всемирно-историческую ценность. Благодаря тому что о нем заблуждались, ложно истолковывали его душевные состояния и самым решительным образом выделяли его из числа остальных людей, как нечто безусловно несравнимое и чужеродно-сверхчеловеческое, - благодаря этому он приобрел ту исключительную силу, с помощью которой он мог владеть воображением целых народов и эпох. Он сам не знал себя; он сам понимал письмена своих настроений, влечений, поступков согласно искусству толкования, которое было столь же натянуто и неестественно, как пневматическое толкование Библии. Бестолковое и больное в его натуре, с ее сочетанием духовной нищеты, плохого знания, испорченного здоровья, чрезмерно раздраженных нервов, оставалось скрытым для его собственного взора, как и для взора посторонних наблюдателей. Он не был особенно добрым человеком и еще менее был особенно мудрым человеком; но он означал нечто, что по благости и мудрости превосходит всякую человеческую меру. Вера в него укрепляла веру в божественное и чудесное, в религиозный смысл всего бытия, в предстоящий день последнего суда. В вечернем блеске закатывающегося солнца мира, которое сияло над христианскими народами, тень святого вырастала до чудовищных размеров; она достигла такой высоты, что даже в наше время, уже не верующее в Бога, находятся еще мыслители, которые веруют в святого.
144
Само собою разумеется, что этому портрету святого, который набросан по среднему экземпляру всего типа, можно противопоставить иные рисунки, которые способны произвести более приятное впечатление. Отдельные исключения из этого типа выделяются либо особой кротостью и благожелательностью к людям, либо очарованием необычайной действенной силы; другие в высшей степени привлекательны, потому что известные фантастические представления изливают на все их существо потоки света, как это, например, имеет место с прославленным основателем христианства, считавшим себя единорожденным Сыном Божьим и оттого чувствовавшим себя безгрешным; так что он силою воображения – о котором не следует судить слишком сурово, так как вся древность кишмя кишела сыновьями Божьими, - достиг той же цели, чувства полной безгрешности, полной безответственности, которое сегодня посредством науки доступно каждому. – Точно так же я отвлекся от индусских святых, которые стоят на промежуточной ступени между христианским святым и греческим философом и в этом смысле не представляют чистого типа; познание, наука – поскольку таковая существовала, - возвышение над другими людьми через логическую дисциплину и воспитание мышления считались у буддистов ценными, как признаки святости, тогда как те же самые качества в христианском мире отвергались и объявлялись еретическими, как признаки греховности.
ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ:
ИЗ ДУШИ ХУДОЖНИКОВ И ПИСАТЕЛЕЙ
145
Мнимая изначальность совершенного.
Мы привыкли не ставить вопроса о возникновении всего совершенного, а, наоборот, наслаждаться его настоящим состоянием, как если бы оно выросло из земли по мановению волшебства. Вероятно, на нас действует здесь еще остаток первобытного мифологического ощущения. Нампочти кажется (например, когда мы созерцаем греческий храм вроде пестумского), что некий бог, играя, построил себе однажды утром жилище из таких огромных тяжестей; в других случаях нам мнится, будто душа была внезапно вколдована в камень и теперь хочет говорить через него. Художник знает, что его произведение оказывает полное действие, лишь когда оно возбуждает веру в импровизацию, в чудесную внезапность возникновения; поэтому он при случае сознательно содействует этой иллюзии и вводит в искусство элементы вдохновенного беспокойства, слепого беспорядка, чуткой грезы при начале творения – в качестве средств обмана, которые должны настроить душу зрителя или слушателя так, чтобы она верила во внезапное появление совершенного. – Теория искусства, разумеется, должна самым решительным образом восстать против этой иллюзии и показать те ложные умозаключения и дурные привычки разума, в силу которых он попадается в сети художника.
146
Чувство правды у художника.
Художник имеет более слабую нравственность в отношении познания истины, чем мыслитель; он отнюдь не хочет лишиться права на блестящие, глубокомысленные истолкования жизни и борется против трезвых, простых методов и выводов. Внешне он ратует за высшее достоинство и значение человека; в действительности же он не намерен отказаться от условий, при которых его искусство может производить наибольшее впечатление, - т.е. от всего фантастического, мифического, неверного, крайнего, от влечения к символам, от переоценки личности и веры в какую-то чудесную природу гения; он, следовательно, считает сохранение своей манеры творчества более важным, чем научная преданность истинному во всякой, хотя бы и в самой непритязательной, его форме.
147
Искусство как заклинатель мертвых.
Искусство исполняет, между прочим, задачу консервирования, а также некоторого разукрашивания погасших, потускневших представлений; разрешая эту задачу, оно плетет связующую нить между различными эпохами и заставляет возвращаться духов прежних времен. Правда, здесь возникает лишь кажущаяся жизнь, как над могилами или как возвращение любимых усопших во сне; но по крайней мере на мгновение еще раз просыпается старое ощущение, и сердце бьется по уже позабытому такту. Памятуя эту общую пользу искусства, нужно относиться снисходительно к самому художнику, если он не стоит в первых рядах просвещения и прогрессивного омужествления человечества: он на всю жизнь остался ребенком или юношей и задержался на той позиции, в которой им завладели его художнические инстинкты; но ощущения первых ступеней жизни, как известно, стоят ближе к ощущениям прошедших эпох, чем к ощущениям нынешнего века. Непроизвольно его задачей становится делать человечество более ребяческим; в этом – его слава и его ограниченность.
148
Поэты как облегчители жизни.
Поэты – поскольку и они хотят облегчить жизнь людей – либо отвращают свой взор от тягостного настоящего, либо помогают настоящему приобрести новые краски посредством света, которым они заставляют излучаться прошедшее. Чтобы иметь возможность делать это, они должны сами быть в известных отношениях существами, обращенными назад; так что ими можно пользоваться как мостами к отдаленнейшим временам и представлениям, к отмирающим или уже отмершим религиям и культурам. Они, собственно, всегда и неизбежно суть эпигоны. Впрочем, об их средствах облегчения жизни можно сказать кое-что неблагоприятное: они успокаивают и исцеляют только временно, только на мгновение; они даже задерживают людей в работе над действительным улучшением условий жизни, устраняя или паллиативно облегчая страсти неудовлетворенного, влекущие к действию.
149
Медленная стрела красоты.
Самый благородный вид красоты есть тот, который не сразу захватывает, который овладевает не бурным упоением (такая красота легко возбуждает отвращение), а тот медленно вливающийся вид красоты, который почти незаметно уносишь с собой, который потом иногда снова встречаешь во сне и который, наконец, после того как он долго скромно лежал в нашем сердце, всецело овладевает нами, наполняет наши глаза слезами и наше сердце – тоской. – К чему стремимся мы, созерцая красоту? К тому, чтобы быть прекрасными; нам мнится, с этим должно быть связано много счастья. – Но это есть заблуждение.
150
Одушевление искусства.
Искусство подымает главу, когда религии приходят в упадок. Оно перенимает множество порожденных религией чувств и настроений, согревает их у своего сердца и становится теперь само более глубоким, одухотворенным, так что способно сообщать воодушевление и возвышенное настроение, чего оно еще не могло делать раньше. Возрастающее богатство религиозного чувства становится потоком, который постоянно прорывается наружу и хочет завоевать все новые области; но растущее просвещение поколебало догматы религии и внушило основательное недоверие к ней; поэтому чувство, вытесненное просвещением из религиозной сферы, устремляется в искусство; в отдельных случаях также в политическую жизнь, а иногда даже прямо в науку. Всюду, где в человеческих стремлениях заметна более возвышенная и мрачная окраска, можно предполагать налет духобоязни, запах ладана и тень церквей.
151
Чем украшает ритм.
Ритм накладывает туманное покрывало на реальность; он побуждает к некоторой искусственности речи и нечистоте мышления; тень, которую он набрасывает на мысль, то закрывает, то подчеркивает явления. Как тени нужны для украшения, так "смутное” нужно для большей отчетливости. – Искусство делает выносимым вид жизни, окутывая ее дымкой нечистого мышления.
152
Искусство безобразной души.
Искусству ставят слишком тесные границы, если требуют, чтобы в нем имела право высказываться только упорядоченная, нравственно уравновешенная душа. Как в пластических искусствах, так и в музыке и поэзии существует искусство безобразной души наряду с искусством прекрасной души; и самые могущественные действия искусства – умение потрясать души, заставлять камни двигаться и превращать зверей в людей – быть может, лучше всего удавались именно этому роду искусства.
153
Искусство причиняет скорбь мыслителю.
Насколько сильна метафизическая потребность и как трудно дается природе последнее расставание с ней, можно усмотреть из того, что даже в свободном уме, когда он уже освободился от всего метафизического, высшие художественные впечатления легко вызывают созвучное дрожание давно онемевшей и даже разорванной метафизической струны; например, внимая Девятой симфонии Бетховена, он чувствует себя витающим над землей в звездном храме с мечтоюбессмертия в сердце; звезды как бы сияют вокруг него, и земля опускается все ниже. – Когда он отдает себе отчет в этом состоянии, он чувствует глубокий укол в сердце и вздыхает о человеке, который вернул бы ему утраченную возлюбленную – называется ли она метафизикой или религией. В такие мгновения проверяется его интеллектуальный характер.
154
Играть жизнью.
Легкость и ветреность гомеровской фантазии была нужна, чтобы ослабить и на время уничтожить чрезмерно страстный дух и слишком острый рассудок греков. Когда у них говорит рассудок – сколь грубой и жестокой является тогда жизнь! Они не обманываются, но они сознательно украшают жизнь ложью. Симонид советовал своим соотечественникам принимать жизнь как игру; скорбь серьезности была им слишком хорошо известна (людское горе есть ведь тема песен, которым так охотно внемлют боги), и они знали, что одно только искусство может даже горе превращать в наслаждение. Но в наказание за этой убеждение ими настолько овладела страсть к выдумкам, что и в повседневной жизни им было трудно освободиться от лжи и обмана; ведь вся порода поэтов чувствует склонность ко лжи и, вдобавок, еще ощущает ее невинность. Эта черта, вероятно, приводила иногда в отчаяние соседние грекам народы.
155
Вера во вдохновение.
Художники заинтересованы в том, чтобы люди верили во внезапные озарения, в так называемое вдохновение; как если бы идея художественного или поэтического произведения, основная мысль философской системы сходила с неба в виде света благодати. В действительности фантазия хорошего художника или мыслителя творит постоянно хорошее, посредственное и плохое, но его острое и опытное суждение отвергает, выбирает, сочетает, как это видно теперь из записных книжек Бетховена, который постепенно составлял свои великолепнейшие мелодии и как бы отбирал их из многообразных набросков. Кто различает менее строго и охотно отдается воспроизводящему воспоминанию, тот при случае может стать великим импровизатором, но художественная импровизация стоит весьма низко по сравнению с упорно и серьезно проверенной художественной мыслью. Все великие гении были великими работниками; они не только неутомимо изобретали, но и неутомимо отвергали, проверяли, совершенствовали, упорядочивали.

МИФОЛОГИЯ






| ГОМЕР | ИЛИАДА | ОДИССЕЯ | ЗОЛОТОЕ РУНО | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ |
| БЕЛАЯ БОГИНЯ | МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ЦАРЬ ИИСУС |
МИФОЛОГИЯ \ФИЛОСОФИЯ\ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА\ ПСИХОЛОГИЯ

| РОБЕРТ ГРЕЙВС. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА |

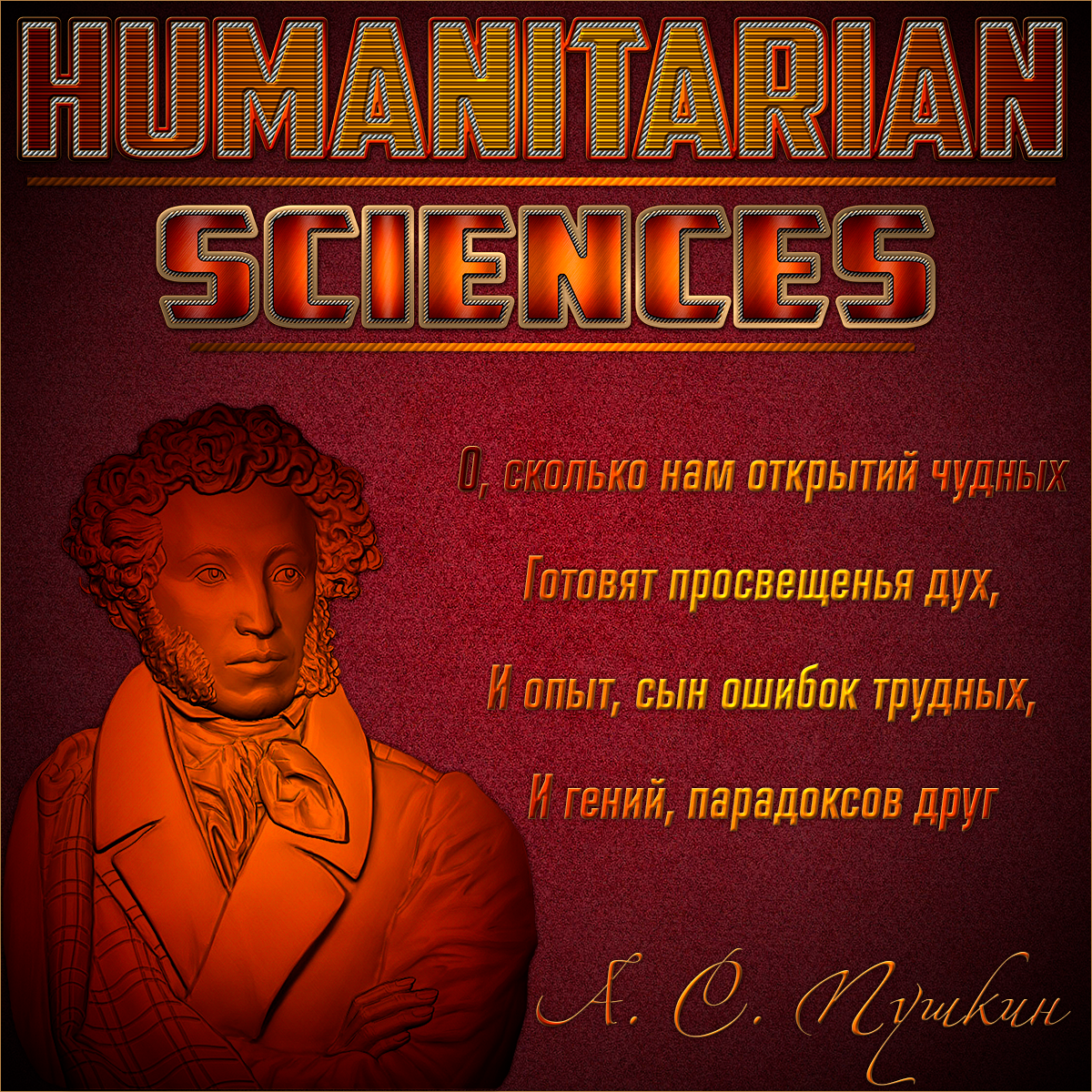











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ




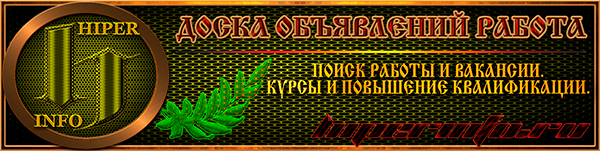

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
