- 100496 Просмотров
- Обсудить

НИЦШЕ \ НИЦШЕ (10)\НИЦШЕ (9)\НИЦШЕ (8)\НИЦШЕ (7)\НИЦШЕ (6)
НИЦШЕ (5)\НИЦШЕ (4)\НИЦШЕ (3)\НИЦШЕ (2)\НИЦШЕ
Воля к власти (0) Воля к власти (2) Воля к власти (3) Воля к власти (4) Воля к власти (5)
Воля к власти (6) Воля к власти (7) Воля к власти (8) Воля к власти (9) Воля к власти (10)
ФИЛОСОФИЯ \ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА \ ПСИХОЛОГИЯ
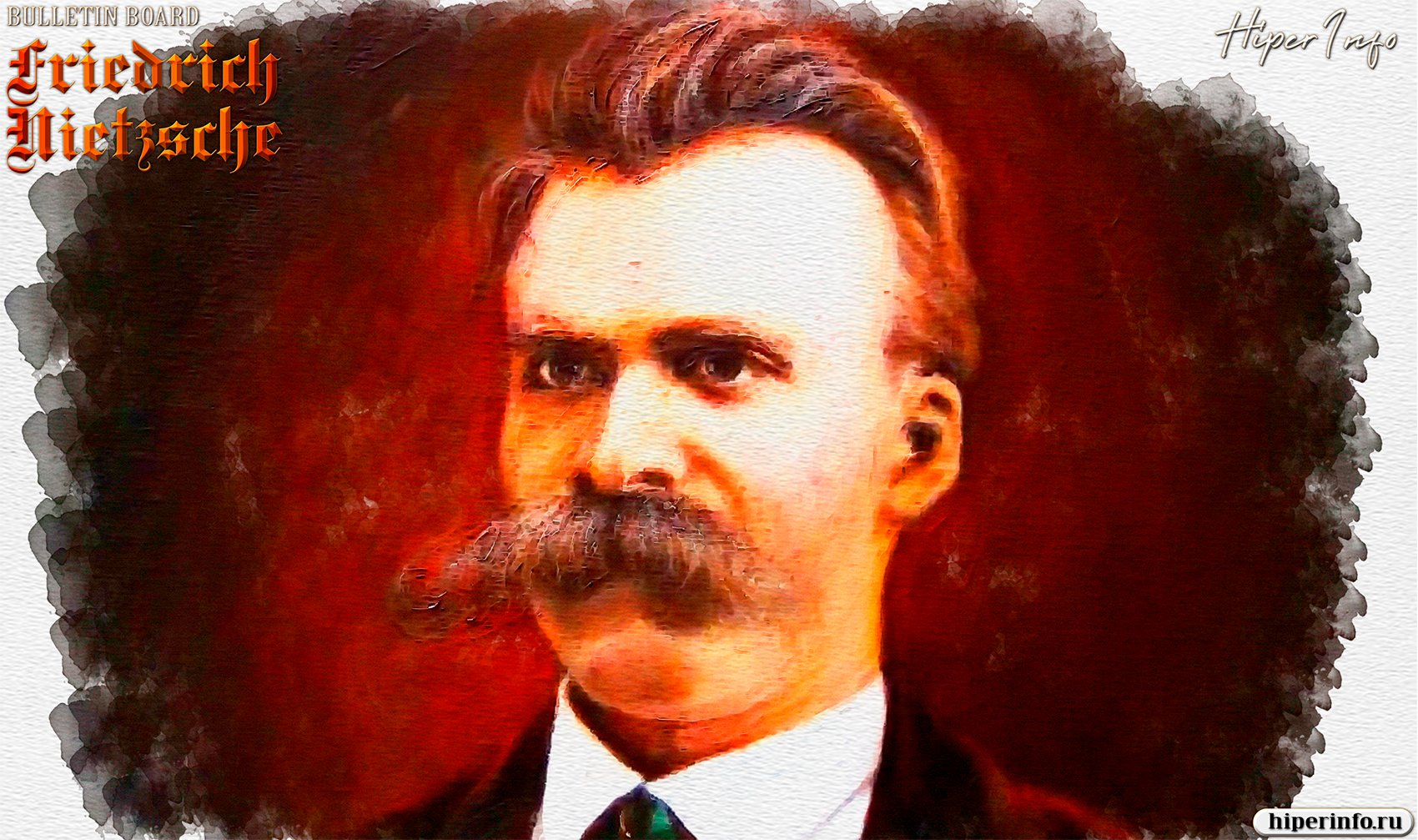
ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ГРУППА / ГРУППОВОЕ / КОЛЛЕКТИВ / КОЛЛЕКТИВНОЕ / СОЦИАЛЬНЫЙ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХИКА / ПСИХИЧЕСКИЙ / ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ / ПСИХОАНАЛИЗ
ФИЛОСОФИЯ / ЭТИКА / ЭСТЕТИКА / ФИЛОСОФ / ПСИХОЛОГ / ПОЭТ / ПИСАТЕЛЬ
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE / ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

НИЦШЕ / NIETZSCHE / ЕССЕ HOMO / ВОЛЯ К ВЛАСТИ / К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ / СУМЕРКИ ИДОЛОВ /
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА / ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА / ЗЛАЯ МУДРОСТЬ / УТРЕННЯЯ ЗАРЯ /
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ / СТИХИ НИЦШЕ / РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ




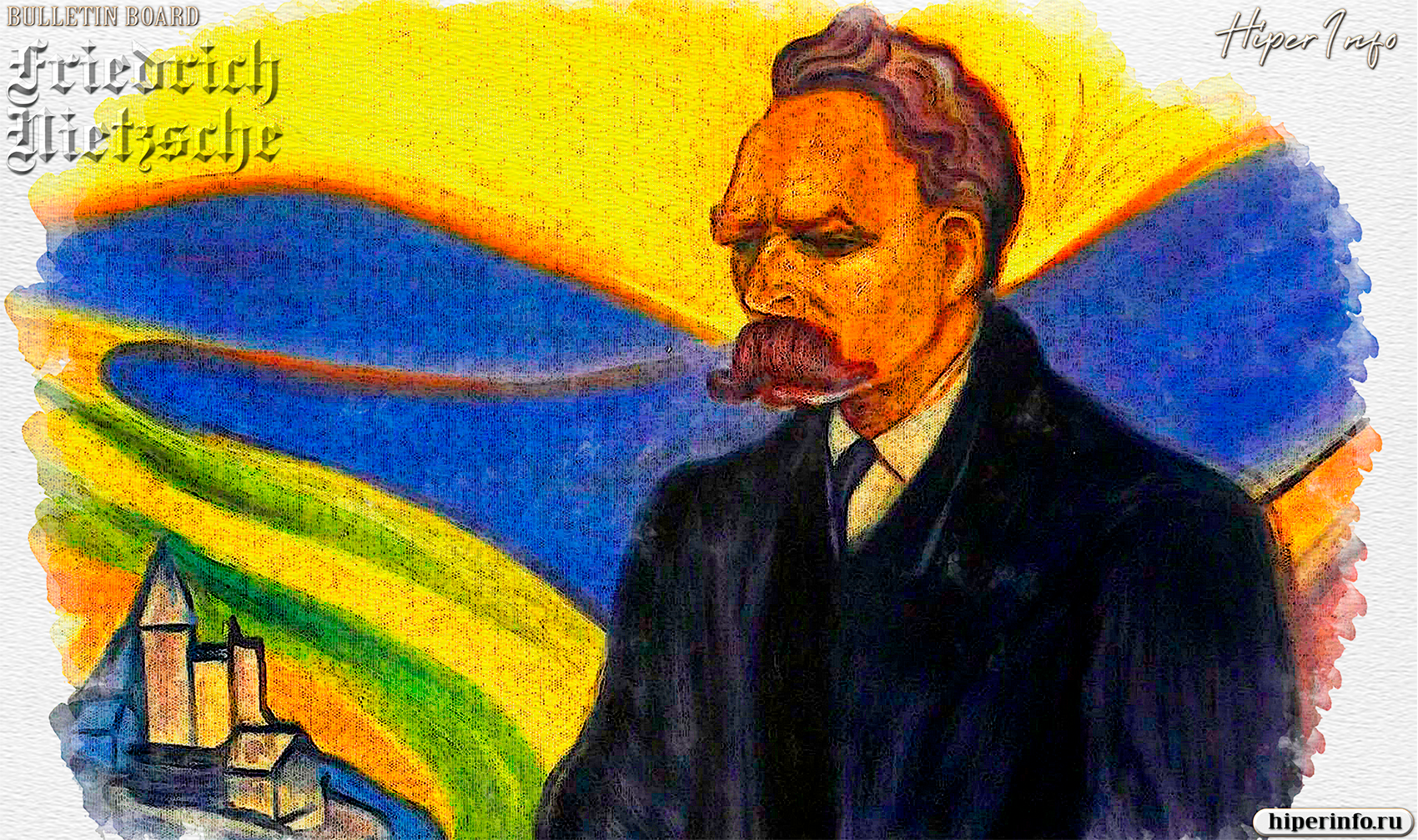




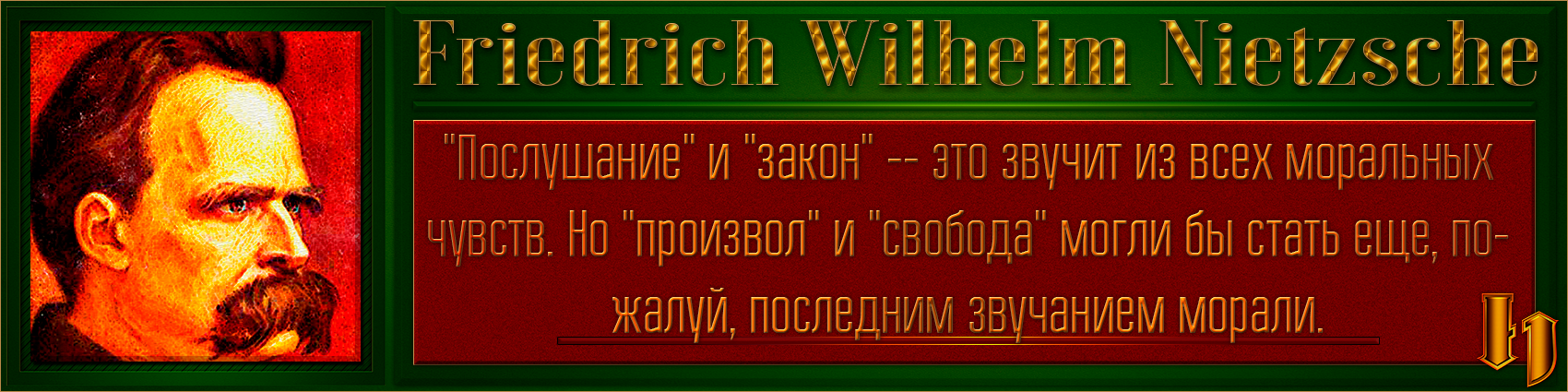


 Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше
ФРИДРИХ НИЦШЕ
ЕССЕ HOMO
КАК СТАНОВЯТСЯ САМИМ СОБОЙ

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ
Четыре Несвоевременных являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был "Гансом-мечтателем", что мне доставляет удовольствие владеть шпагой, - может быть, также и то, что у меня рискованно ловкое запястье. Первое нападение (1873) было на немецкую культуру, на которую я уже тогда смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное "общественное мнение". Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу ее победы над Францией... Второе Несвоевременное (1874) освещает все опасное, все подтачивающее и отравляющее жизнь в наших приемах научной работы: жизнь, больную от этой обесчеловеченной шестеренки и механизма, от "безличности" работника, от ложной экономии "разделения труда". Утрачивается цель - культура: средства - современные научные приемы - низводят на уровень варварства... В этом исследовании впервые признается болезнью, типическим признаком упадка "историческое чувство", которым гордится этот век. - В третьем и четвертом Несвоевременном, как указание к высшему пониманию культуры и к восстановлению понятия "культура", выставлены два образа суровейшего эгоизма и самодисциплины, несвоевременные типы par exellence, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось "Империей", "образованием", "христианством", "Бисмарком", "успехом", - Шопенгауэр и Вагнер, или, одним словом, Ницше... 2 Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Шум, им вызванный, был во всех отношениях великолепен. Я коснулся уязвимого места победоносной нации - что ее победа не культурное событие, а возможно, возможно, нечто совсем другое... Ответы приходили со всех сторон, и отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я сделал посмешищем как тип филистера немецкой культуры и satisfait, короче, как автора его распивочного евангелия о "старой и новой вере" ( - слово "филистер культуры" перешло из моей книги в разговорную речь). Эти старые друзья, вюртембержцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я нашел смешным их чудо, их Штрауса, отвечали мне так честно и грубо, как только мог я желать; прусские возражения были умнее - в них было больше "берлинской хмели". Самое неприличное выкинул один лейпцигский листок, обесславленные "Grenzboten"; мне стоило больших усилий удержать возмущенных базельцев от решительных шагов. Безусловно высказались за меня лишь несколько старых господ, по различным и отчасти необъяснимым основаниям. Между ними был Эвальд из Гёттингена, давший понять, что мое нападение оказалось смертельным для Штрауса. Точно так же высказался старый гегельянец Бруно Бауэр, в котором я имел с тех пор одного из самых внимательных моих читателей. Он любил, в последние годы своей жизни, ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу господину фон Трейчке, у кого именно мог бы он получить сведения об утраченном им понятии "культура". Самое глубокомысленное и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе было высказано старым учеником философа Баадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По моему сочинению он предвидел для меня великое назначение - вызвать род кризиса и дать наилучшее разрешение проблемы атеизма; он угадывал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. - Лучше всего была выслушана и с наибольшей горечью воспринята чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обыкновенно столь мягкого Карла Гиллебранда, этого последнего немецкого гуманиста, умевшего владеть пером. Раньше его статью читали в "Augsburger Zeitung", а теперь ее можно прочесть, в несколько более осторожной форме, в собрании его сочинений. Здесь моя книга представлена как событие, как поворотный пункт, как первое самосознание, как лучшее знамение, как действительное возвращение немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Гиллебранд был полон высоких похвал форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в различении личности и вещи: он отмечал его как лучшее полемическое сочинение, написанное по-немецки - именно в столь опасном для немцев искусстве, как полемика, которое не следует им рекомендовать. Безусловно утверждая, даже обостряя то, что я осмелился сказать о порче языка в Германии (теперь они разыгрывают пуристов и не могут уже составить предложения), высказывая такое же презрение к "первым писателям" этой нации, он кончил выражением своего удивления моему мужеству, тому "высшему мужеству, которое приводит любимцев народа на скамью подсудимых"... Последующее влияние этого сочинения совершенно неоценимо в моей жизни. Никто с тех пор не спорил со мною. Теперь все молчат обо мне, со мною обходятся в Германии с угрюмой осторожностью: в течение целых лет я пользовался безусловной свободой слова, для которой ни у кого, меньше всего в "Империи", нет достаточно свободной руки. Мой рай покоится "под сенью моего меча"... В сущности я применил правило Стендаля: он советует ознаменовать свое вступление в общество дуэлью. И какого я выбрал себе противника! первого немецкого вольнодумца!.. На деле этим был впервые выражен совсем новый род свободомыслия; до сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская species "libres penseurs". С ними, как с неисправимыми тупицами и шутами "современных идей", нахожусь я даже в более глубоком разногласии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему "улучшить" человечество, по собственному образцу; они вели бы непримиримую войну против всего, в чем выражается мое Я, чего я хочу, если предположить, что они это поняли бы, - они еще верят совокупно в "идеал"... Я первый имморалист. - 3 Я не хотел бы утверждать, что отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера Несвоевременные могут особенно служить к уяснению или хотя бы только к психологической постановке вопроса об обоих случаях - исключая, по справедливости, частности. Так, например, с глубокой уверенностью-инстинктом здесь обозначен главный элемент в натуре Вагнера, дарование актера, извлекающее из своих средств и намерений свои собственные следствия. В сущности, вовсе не психологией хотел я заниматься в этих сочинениях: не сравнимая ни с чем проблема воспитания, новое понятие самодисциплины, самозащиты до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам еще требовали своего первого выражения. В общем я притянул за волосы два знаменитых и еще вовсе не установленных типа, как притягивают за волосы всякую случайность, дабы выразить нечто, дабы располагать несколькими лишними формулами, знаками и средствами выражения. Это отмечено напоследок с особой тревожной прозорливостью на стр. 350 третьего Несвоевременного. Так Платон пользовался Сократом, как семиотикой для Платона. - Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния, свидетельством которых являются эти сочинения, я не стану отрицать, что в сущности они говорят исключительно обо мне. Сочинение "Вагнер в Байрейте" есть видение моего будущего; напротив, в "Шопенгауэре как воспитателе" вписана моя внутренняя история, мое становление. Прежде всего мой обет!.. То, чем являюсь я теперь, то, где нахожусь я теперь, - на высоте, где я говорю уже не словами, а молниями, - о, как далек я был тогда еще от этого! - Но я видел землю - я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности - и успехе! Этот великий покой в обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обещанием! - Здесь каждое слово пережито, глубоко, интимно; нет недостатка в самом болезненном чувстве, есть слова прямо кровоточащие. Но ветер великой свободы проносится надо всем; сама рана не действует как возражение. - О том, как понимаю я философа - как страшное взрывчатое вещество, перед которым все пребывает в опасности, - как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое включает в себя даже какого-нибудь Канта, не говоря уже об академических "жвачных животных" и прочих профессорах философии: на этот счет дает мое сочинение бесценный урок, даже если, в сущности, речь здесь идет не о "Шопенгауэре как воспитателе", а о его противоположности - "Ницше как воспитателе". - Если принять во внимание, что моим ремеслом было тогда ремесло ученого и что я, пожалуй, хорошо понимал свое ремесло, то представится не лишенный значения суровый образец психологии ученого, внезапно выдвинутый в этом сочинении: он выражает чувство дистанции, глубокую уверенность в том, что может быть у меня задачей, что только средством, отдыхом и побочным делом. Моя мудрость выражается в том, чтобы быть многим и многосущим для умения стать единым - для умения прийти к единому. Я должен был еще некоторое время оставаться ученым.
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
С двумя продолжениями "Человеческое, слишком человеческое" есть памятник кризиса. Оно называется книгой для свободных умов: почти каждая фраза в нём выражает победу - с этой книгой я освободился от всего не присущего моей натуре. Не присущ мне идеализм - заглавие говорит: "где вы видите идеальные вещи, там вижу я - человеческое, ах, только слишком человеческое!.." Я лучше знаю человека... Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово "свободный ум": освободившийся ум, который снова овладел самим собою. Тон, тембр голоса совершенно изменился: книгу найдут умной, холодной, при случае даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность аристократического вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти Вольтера как бы извиняет издание книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего grandseigneur духа: так же, как и я. - Имя Вольтера на моем сочинении - это был действительно шаг вперед - ко мне... Если присмотреться ближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, где идеал чувствует себя дома, где находятся его подземелья и его последнее убежище. С факелом в руках, дающим отнюдь не "дрожащий от факела" свет, освещается с режущей яркостью этот подземный мир идеала. Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов - перечисленное было бы еще "идеализмом". Одно заблуждение за другим выносится на лед, идеал не опровергается - он замерзает... Здесь, например, замерзает "гений"; немного дальше замерзает "святой"; под толстым слоем льда замерзает "герой"; в конце замерзает "вера", так называемое "убеждение", даже "сострадание" значительно остывает - почти всюду замерзает "вещь в себе"... 2 Возникновение этой книги относится к неделям первых байрейтских фестшпилей; глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения. Кто имеет понятие о том, какие видения уже тогда пробежали по моему пути, может угадать, что творилось в моей душе, когда я однажды проснулся в Байрейте. Совсем как если бы я грезил... Где же я был? Я ничего не узнавал, я едва узнавал Вагнера. Тщетно перебирал я свои воспоминания. Трибшен - далекий остров блаженных: нет ни тени сходства. Несравненные дни закладки, маленькая группа людей, которые были на своем месте и праздновали эту закладку и вовсе не нуждались в пальцах для нежных вещей: нет ни тени сходства. Что случилось? - Вагнера перевели на немецкий язык! Вагнерианец стал господином над Вагнером! Немецкое искусство! немецкий маэстро! немецкое пиво!.. Мы, знающие слишком хорошо, к каким утонченным артистам, к какому космополитизму вкуса обращается искусство Вагнера, мы были вне себя, найдя Вагнера увешанным немецкими "добродетелями". - Я думаю, что знаю вагнерианца, я "пережил" три поколения, от покойного Бренделя, путавшего Вагнера с Гегелем, до "идеалистов" Байрейтских листков, путавших Вагнера с собою, - я слышал всякого рода исповеди "прекрасных душ" о Вагнере. Полцарства за одно осмысленное слово! Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом! Ноль, Поль, Коль - грациозные in infinitum! Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка, даже в антисемите. - Бедный Вагнер! Куда он попал! - Если бы он попал еще к свиньям! А то к немцам!.. В конце концов следовало бы, в назидание потомству, сделать чучело истинного байрейтца или, еще лучше, посадить его в спирт, ибо именно спиритуальности ему и недостает, - с надписью: так выглядел "дух", на котором была основана "Империя"... Довольно, я уехал среди празднеств на несколько недель, совершенно внезапно, несмотря на то, что одна очаровательная парижанка пробовала меня утешить; я извинился перед Вагнером только фаталистической телеграммой. В Клингенбрунне, глубоко затерянном в лесах местечке Богемии, носил я в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал время от времени в свою записную книжку под общим названием "Сошник" тезисы, сплошные жесткие psychologica, которые, может быть, встречаются еще раз в "Человеческом, слишком человеческом". 3 То, что тогда во мне решилось, был не только разрыв с Вагнером - я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называйся они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. Нетерпение к себе охватило меня; я увидел, что настала пора сознать себя. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено - как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Я стыдился этой ложной скромности... Десять лет за плечами, когда питание моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Тщательно, с больными глазами пробираться среди античных стихотворцев - вот до чего я дошел! - С сожалением видел я себя вконец исхудавшим, вконец изголодавшимся: реальностей вовсе не было в моем знании, а "идеальности" ни черта не стоили! - Поистине, жгучая жажда охватила меня - с этих пор я действительно не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук, - даже к собственно историческим занятиям я вернулся только тогда, когда меня повелительно принудила к этому моя задача. Тогда же я впервые угадал связь между избранной вопреки инстинкту деятельностью, так называемым "призванием", к которому я менее всего был призван, - и потребностью в заглушении чувства пустоты и голода наркотическим искусством - например, вагнеровским искусством. Осторожно оглядевшись вокруг себя, я открыл, что то же бедствие постигает большинство молодых людей: одна противоестественность буквально вынуждает другую. В Германии, в "Империи", чтобы говорить недвусмысленно, слишком многие осуждены принять несвоевременно какое-нибудь решение, а потом, под неустранимым бременем, зачахнуть... Эти нуждаются в Вагнере как в опиуме - они забываются, они избавляются от себя на мгновение... Что говорю я! на пять, на шесть часов! - 4 Тогда неумолимо восстал мой инстинкт против дальнейших уступок, против следования за другими, против смешения себя с другими. Любой род жизни, самые неблагоприятные условия, болезнь, бедность - все казалось мне предпочтительнее того недостойного "бескорыстия", в которое я поначалу попал по незнанию, по молодости и в котором позднее застрял из трусости, из так называемого "чувства долга". - Здесь, самым изумительным образом, и притом в самое нужное время, пришло мне на помощь дурное наследство со стороны моего отца, - в сущности, предопределение к ранней смерти. Болезнь медленно высвобождала меня: она избавила меня от всякого разрыва, всякого насильственного и неприличного шага. Я не утратил тогда ничьего доброжелательства и еще приобрел много нового. Болезнь дала мне также право на совершенный переворот во всех моих привычках; она позволила, она приказала мне забвение; она одарила меня принуждением к бездействию, к праздности, к выжиданию и терпению... Но ведь это и значит думать!.. Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству, по-немецки: филологии; я был избавлен от "книги", я годами ничего уже не читал - величайшее благодеяние, какое я себе когда-либо оказывал! - Глубоко скрытое Само, как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей необходимостью слушать другие Само ( - а ведь это и значит читать!), просыпалось медленно, робко, колеблясь, - но наконец оно заговорило. Никогда не находил я столько счастья в себе, как в самые болезненные, самые страдальческие времена моей жизни: стоит только взглянуть на "Утреннюю зарю" или на "Странника и его тень", чтобы понять, чем было это "возвращение к себе": самым высшим родом выздоровления!... Другое только следовало из него. - 5 Человеческое, слишком человеческое, этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесённому в меня "мошенничеству высшего порядка", "идеализму", "прекрасному чувству" и прочим женственностям, - было во всем существенном написано в Сорренто; оно получило свое заключение, свою окончательную форму зимою, проведенною в Базеле, в несравненно менее благоприятных условиях, чем условия Сорренто. В сущности, эта книга лежит на совести у господина Петера Гаста, тогда студента Базельского университета, очень преданного мне. Я диктовал, с обвязанной и больной головой, он писал, он также исправлял - он был в сущности писателем, а я только автором. Когда в руках моих была завершенная вконец книга - к глубокому удивлению тяжелобольного, - я послал, между прочим, два экземпляра и в Байрейт. Каким-то чудом смысла, проявившегося в случайности, до меня в то же время дошел прекрасный экземпляр текста Парсифаля с посвящением Вагнера мне - "моему дорогому другу Фридриху Ницше, Рихард Вагнер, церковный советник". - Это было скрещение двух книг - мне казалось, будто я слышал при этом зловещий звук. Не звучало ли это так, как если бы скрестились две шпаги?.. Во всяком случае мы оба так именно и восприняли это: ибо мы оба молчали. - К тому времени появились первые Байрейтские листки: я понял, чему настала пора. - Невероятно! Вагнер стал набожным... 6 Что я думал тогда (1876) о себе, с какой чудовищной уверенностью я держал в руках свою задачу и то, что было в ней всемирно-исторического, - об этом свидетельствует вся книга, и прежде всего одно очень выразительное в ней место: с инстинктивной во мне хитростью я и здесь вновь обошел словечко Я; но на сей раз не Шопенгауэра или Вагнера, а одного из моих друзей, превосходного доктора Пауля Рэ я озарил всемирно-исторической славой - к счастью, он оказался слишком тонким животным, чтобы... Другие были менее хитры: безнадежных среди моих читателей, например типичного немецкого профессора, я всегда узнавал по тому, что они, основываясь на этом месте, считали себя обязанными понимать всю книгу как высший рэализм. В действительности она заключала противоречие лишь пяти-шести тезисам моего друга: об этом можно прочесть в предисловии к "Генеалогии морали". - Это место гласит: каково же то главное положение, к которому пришел один из самых сильных и холодных мыслителей, автор книги "О происхождении моральных чувств" (lisez: Ницше, первый имморалист), с помощью своего острого и проницательного анализа человеческого поведения? "Моральный человек стоит не ближе к умопостигаемому миру, чем человек физический, - ибо не существует умопостигаемого мира"... Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания (lisez: переоценки всех ценностей), может некогда в будущем - 1890! - послужить секирой, которая будет положена у корней "метафизической потребности" человечества, - на благо или проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? Но во всяком случае, как положение, чреватое важнейшими последствиями, вместе плодотворное и ужасное и взирающее на мир тем двойственным взглядом, который бывает присущ всякому великому познанию...
Четыре Несвоевременных являются исключительно воинственными. Они доказывают, что я не был "Гансом-мечтателем", что мне доставляет удовольствие владеть шпагой, - может быть, также и то, что у меня рискованно ловкое запястье. Первое нападение (1873) было на немецкую культуру, на которую я уже тогда смотрел сверху вниз с беспощадным презрением. Без смысла, без содержания, без цели: сплошное "общественное мнение". Нет более пагубного недоразумения, чем думать, что большой успех немецкого оружия доказывает что-нибудь в пользу этой культуры или даже в пользу ее победы над Францией... Второе Несвоевременное (1874) освещает все опасное, все подтачивающее и отравляющее жизнь в наших приемах научной работы: жизнь, больную от этой обесчеловеченной шестеренки и механизма, от "безличности" работника, от ложной экономии "разделения труда". Утрачивается цель - культура: средства - современные научные приемы - низводят на уровень варварства... В этом исследовании впервые признается болезнью, типическим признаком упадка "историческое чувство", которым гордится этот век. - В третьем и четвертом Несвоевременном, как указание к высшему пониманию культуры и к восстановлению понятия "культура", выставлены два образа суровейшего эгоизма и самодисциплины, несвоевременные типы par exellence, полные суверенного презрения ко всему, что вокруг них называлось "Империей", "образованием", "христианством", "Бисмарком", "успехом", - Шопенгауэр и Вагнер, или, одним словом, Ницше... 2 Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Шум, им вызванный, был во всех отношениях великолепен. Я коснулся уязвимого места победоносной нации - что ее победа не культурное событие, а возможно, возможно, нечто совсем другое... Ответы приходили со всех сторон, и отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я сделал посмешищем как тип филистера немецкой культуры и satisfait, короче, как автора его распивочного евангелия о "старой и новой вере" ( - слово "филистер культуры" перешло из моей книги в разговорную речь). Эти старые друзья, вюртембержцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я нашел смешным их чудо, их Штрауса, отвечали мне так честно и грубо, как только мог я желать; прусские возражения были умнее - в них было больше "берлинской хмели". Самое неприличное выкинул один лейпцигский листок, обесславленные "Grenzboten"; мне стоило больших усилий удержать возмущенных базельцев от решительных шагов. Безусловно высказались за меня лишь несколько старых господ, по различным и отчасти необъяснимым основаниям. Между ними был Эвальд из Гёттингена, давший понять, что мое нападение оказалось смертельным для Штрауса. Точно так же высказался старый гегельянец Бруно Бауэр, в котором я имел с тех пор одного из самых внимательных моих читателей. Он любил, в последние годы своей жизни, ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу господину фон Трейчке, у кого именно мог бы он получить сведения об утраченном им понятии "культура". Самое глубокомысленное и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе было высказано старым учеником философа Баадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По моему сочинению он предвидел для меня великое назначение - вызвать род кризиса и дать наилучшее разрешение проблемы атеизма; он угадывал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. - Лучше всего была выслушана и с наибольшей горечью воспринята чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обыкновенно столь мягкого Карла Гиллебранда, этого последнего немецкого гуманиста, умевшего владеть пером. Раньше его статью читали в "Augsburger Zeitung", а теперь ее можно прочесть, в несколько более осторожной форме, в собрании его сочинений. Здесь моя книга представлена как событие, как поворотный пункт, как первое самосознание, как лучшее знамение, как действительное возвращение немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Гиллебранд был полон высоких похвал форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в различении личности и вещи: он отмечал его как лучшее полемическое сочинение, написанное по-немецки - именно в столь опасном для немцев искусстве, как полемика, которое не следует им рекомендовать. Безусловно утверждая, даже обостряя то, что я осмелился сказать о порче языка в Германии (теперь они разыгрывают пуристов и не могут уже составить предложения), высказывая такое же презрение к "первым писателям" этой нации, он кончил выражением своего удивления моему мужеству, тому "высшему мужеству, которое приводит любимцев народа на скамью подсудимых"... Последующее влияние этого сочинения совершенно неоценимо в моей жизни. Никто с тех пор не спорил со мною. Теперь все молчат обо мне, со мною обходятся в Германии с угрюмой осторожностью: в течение целых лет я пользовался безусловной свободой слова, для которой ни у кого, меньше всего в "Империи", нет достаточно свободной руки. Мой рай покоится "под сенью моего меча"... В сущности я применил правило Стендаля: он советует ознаменовать свое вступление в общество дуэлью. И какого я выбрал себе противника! первого немецкого вольнодумца!.. На деле этим был впервые выражен совсем новый род свободомыслия; до сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская species "libres penseurs". С ними, как с неисправимыми тупицами и шутами "современных идей", нахожусь я даже в более глубоком разногласии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему "улучшить" человечество, по собственному образцу; они вели бы непримиримую войну против всего, в чем выражается мое Я, чего я хочу, если предположить, что они это поняли бы, - они еще верят совокупно в "идеал"... Я первый имморалист. - 3 Я не хотел бы утверждать, что отмеченные именами Шопенгауэра и Вагнера Несвоевременные могут особенно служить к уяснению или хотя бы только к психологической постановке вопроса об обоих случаях - исключая, по справедливости, частности. Так, например, с глубокой уверенностью-инстинктом здесь обозначен главный элемент в натуре Вагнера, дарование актера, извлекающее из своих средств и намерений свои собственные следствия. В сущности, вовсе не психологией хотел я заниматься в этих сочинениях: не сравнимая ни с чем проблема воспитания, новое понятие самодисциплины, самозащиты до жестокости, путь к величию и всемирно-историческим задачам еще требовали своего первого выражения. В общем я притянул за волосы два знаменитых и еще вовсе не установленных типа, как притягивают за волосы всякую случайность, дабы выразить нечто, дабы располагать несколькими лишними формулами, знаками и средствами выражения. Это отмечено напоследок с особой тревожной прозорливостью на стр. 350 третьего Несвоевременного. Так Платон пользовался Сократом, как семиотикой для Платона. - Теперь, когда из некоторого отдаления я оглядываюсь на те состояния, свидетельством которых являются эти сочинения, я не стану отрицать, что в сущности они говорят исключительно обо мне. Сочинение "Вагнер в Байрейте" есть видение моего будущего; напротив, в "Шопенгауэре как воспитателе" вписана моя внутренняя история, мое становление. Прежде всего мой обет!.. То, чем являюсь я теперь, то, где нахожусь я теперь, - на высоте, где я говорю уже не словами, а молниями, - о, как далек я был тогда еще от этого! - Но я видел землю - я ни на одно мгновение не обманулся в пути, в море, в опасности - и успехе! Этот великий покой в обещании, этот счастливый взгляд в будущее, которое не должно остаться только обещанием! - Здесь каждое слово пережито, глубоко, интимно; нет недостатка в самом болезненном чувстве, есть слова прямо кровоточащие. Но ветер великой свободы проносится надо всем; сама рана не действует как возражение. - О том, как понимаю я философа - как страшное взрывчатое вещество, перед которым все пребывает в опасности, - как отделяю я свое понятие философа на целые мили от такого понятия о нем, которое включает в себя даже какого-нибудь Канта, не говоря уже об академических "жвачных животных" и прочих профессорах философии: на этот счет дает мое сочинение бесценный урок, даже если, в сущности, речь здесь идет не о "Шопенгауэре как воспитателе", а о его противоположности - "Ницше как воспитателе". - Если принять во внимание, что моим ремеслом было тогда ремесло ученого и что я, пожалуй, хорошо понимал свое ремесло, то представится не лишенный значения суровый образец психологии ученого, внезапно выдвинутый в этом сочинении: он выражает чувство дистанции, глубокую уверенность в том, что может быть у меня задачей, что только средством, отдыхом и побочным делом. Моя мудрость выражается в том, чтобы быть многим и многосущим для умения стать единым - для умения прийти к единому. Я должен был еще некоторое время оставаться ученым.
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
С двумя продолжениями "Человеческое, слишком человеческое" есть памятник кризиса. Оно называется книгой для свободных умов: почти каждая фраза в нём выражает победу - с этой книгой я освободился от всего не присущего моей натуре. Не присущ мне идеализм - заглавие говорит: "где вы видите идеальные вещи, там вижу я - человеческое, ах, только слишком человеческое!.." Я лучше знаю человека... Ни в каком ином смысле не должно быть понято здесь слово "свободный ум": освободившийся ум, который снова овладел самим собою. Тон, тембр голоса совершенно изменился: книгу найдут умной, холодной, при случае даже жестокой и насмешливой. Кажется, будто известная духовность аристократического вкуса постоянно одерживает верх над страстным стремлением, скрывающимся на дне. В этом сочетании есть тот смысл, что именно столетие со дня смерти Вольтера как бы извиняет издание книги в 1878 году. Ибо Вольтер, в противоположность всем, кто писал после него, есть прежде всего grandseigneur духа: так же, как и я. - Имя Вольтера на моем сочинении - это был действительно шаг вперед - ко мне... Если присмотреться ближе, то здесь откроется безжалостный дух, знающий все закоулки, где идеал чувствует себя дома, где находятся его подземелья и его последнее убежище. С факелом в руках, дающим отнюдь не "дрожащий от факела" свет, освещается с режущей яркостью этот подземный мир идеала. Это война, но война без пороха и дыма, без воинственных поз, без пафоса и вывихнутых членов - перечисленное было бы еще "идеализмом". Одно заблуждение за другим выносится на лед, идеал не опровергается - он замерзает... Здесь, например, замерзает "гений"; немного дальше замерзает "святой"; под толстым слоем льда замерзает "герой"; в конце замерзает "вера", так называемое "убеждение", даже "сострадание" значительно остывает - почти всюду замерзает "вещь в себе"... 2 Возникновение этой книги относится к неделям первых байрейтских фестшпилей; глубокая отчужденность от всего, что меня там окружало, есть одно из условий ее возникновения. Кто имеет понятие о том, какие видения уже тогда пробежали по моему пути, может угадать, что творилось в моей душе, когда я однажды проснулся в Байрейте. Совсем как если бы я грезил... Где же я был? Я ничего не узнавал, я едва узнавал Вагнера. Тщетно перебирал я свои воспоминания. Трибшен - далекий остров блаженных: нет ни тени сходства. Несравненные дни закладки, маленькая группа людей, которые были на своем месте и праздновали эту закладку и вовсе не нуждались в пальцах для нежных вещей: нет ни тени сходства. Что случилось? - Вагнера перевели на немецкий язык! Вагнерианец стал господином над Вагнером! Немецкое искусство! немецкий маэстро! немецкое пиво!.. Мы, знающие слишком хорошо, к каким утонченным артистам, к какому космополитизму вкуса обращается искусство Вагнера, мы были вне себя, найдя Вагнера увешанным немецкими "добродетелями". - Я думаю, что знаю вагнерианца, я "пережил" три поколения, от покойного Бренделя, путавшего Вагнера с Гегелем, до "идеалистов" Байрейтских листков, путавших Вагнера с собою, - я слышал всякого рода исповеди "прекрасных душ" о Вагнере. Полцарства за одно осмысленное слово! Поистине, общество, от которого волосы встают дыбом! Ноль, Поль, Коль - грациозные in infinitum! Ни в каком ублюдке здесь нет недостатка, даже в антисемите. - Бедный Вагнер! Куда он попал! - Если бы он попал еще к свиньям! А то к немцам!.. В конце концов следовало бы, в назидание потомству, сделать чучело истинного байрейтца или, еще лучше, посадить его в спирт, ибо именно спиритуальности ему и недостает, - с надписью: так выглядел "дух", на котором была основана "Империя"... Довольно, я уехал среди празднеств на несколько недель, совершенно внезапно, несмотря на то, что одна очаровательная парижанка пробовала меня утешить; я извинился перед Вагнером только фаталистической телеграммой. В Клингенбрунне, глубоко затерянном в лесах местечке Богемии, носил я в себе, как болезнь, свою меланхолию и презрение к немцам и вписывал время от времени в свою записную книжку под общим названием "Сошник" тезисы, сплошные жесткие psychologica, которые, может быть, встречаются еще раз в "Человеческом, слишком человеческом". 3 То, что тогда во мне решилось, был не только разрыв с Вагнером - я понял общее заблуждение своего инстинкта, отдельные промахи которого, называйся они Вагнером или базельской профессурой, были лишь знамением. Нетерпение к себе охватило меня; я увидел, что настала пора сознать себя. Сразу сделалось мне ясно до ужаса, как много времени было потрачено - как бесполезно, как произвольно было для моей задачи все мое существование филолога. Я стыдился этой ложной скромности... Десять лет за плечами, когда питание моего духа было совершенно приостановлено, когда я не научился ничему годному, когда я безумно многое забыл, корпя над хламом пыльной учености. Тщательно, с больными глазами пробираться среди античных стихотворцев - вот до чего я дошел! - С сожалением видел я себя вконец исхудавшим, вконец изголодавшимся: реальностей вовсе не было в моем знании, а "идеальности" ни черта не стоили! - Поистине, жгучая жажда охватила меня - с этих пор я действительно не занимался ничем другим, кроме физиологии, медицины и естественных наук, - даже к собственно историческим занятиям я вернулся только тогда, когда меня повелительно принудила к этому моя задача. Тогда же я впервые угадал связь между избранной вопреки инстинкту деятельностью, так называемым "призванием", к которому я менее всего был призван, - и потребностью в заглушении чувства пустоты и голода наркотическим искусством - например, вагнеровским искусством. Осторожно оглядевшись вокруг себя, я открыл, что то же бедствие постигает большинство молодых людей: одна противоестественность буквально вынуждает другую. В Германии, в "Империи", чтобы говорить недвусмысленно, слишком многие осуждены принять несвоевременно какое-нибудь решение, а потом, под неустранимым бременем, зачахнуть... Эти нуждаются в Вагнере как в опиуме - они забываются, они избавляются от себя на мгновение... Что говорю я! на пять, на шесть часов! - 4 Тогда неумолимо восстал мой инстинкт против дальнейших уступок, против следования за другими, против смешения себя с другими. Любой род жизни, самые неблагоприятные условия, болезнь, бедность - все казалось мне предпочтительнее того недостойного "бескорыстия", в которое я поначалу попал по незнанию, по молодости и в котором позднее застрял из трусости, из так называемого "чувства долга". - Здесь, самым изумительным образом, и притом в самое нужное время, пришло мне на помощь дурное наследство со стороны моего отца, - в сущности, предопределение к ранней смерти. Болезнь медленно высвобождала меня: она избавила меня от всякого разрыва, всякого насильственного и неприличного шага. Я не утратил тогда ничьего доброжелательства и еще приобрел много нового. Болезнь дала мне также право на совершенный переворот во всех моих привычках; она позволила, она приказала мне забвение; она одарила меня принуждением к бездействию, к праздности, к выжиданию и терпению... Но ведь это и значит думать!.. Мои глаза одни положили конец всякому буквоедству, по-немецки: филологии; я был избавлен от "книги", я годами ничего уже не читал - величайшее благодеяние, какое я себе когда-либо оказывал! - Глубоко скрытое Само, как бы погребенное, как бы умолкшее перед постоянной высшей необходимостью слушать другие Само ( - а ведь это и значит читать!), просыпалось медленно, робко, колеблясь, - но наконец оно заговорило. Никогда не находил я столько счастья в себе, как в самые болезненные, самые страдальческие времена моей жизни: стоит только взглянуть на "Утреннюю зарю" или на "Странника и его тень", чтобы понять, чем было это "возвращение к себе": самым высшим родом выздоровления!... Другое только следовало из него. - 5 Человеческое, слишком человеческое, этот памятник суровой самодисциплины, с помощью которой я внезапно положил конец всему привнесённому в меня "мошенничеству высшего порядка", "идеализму", "прекрасному чувству" и прочим женственностям, - было во всем существенном написано в Сорренто; оно получило свое заключение, свою окончательную форму зимою, проведенною в Базеле, в несравненно менее благоприятных условиях, чем условия Сорренто. В сущности, эта книга лежит на совести у господина Петера Гаста, тогда студента Базельского университета, очень преданного мне. Я диктовал, с обвязанной и больной головой, он писал, он также исправлял - он был в сущности писателем, а я только автором. Когда в руках моих была завершенная вконец книга - к глубокому удивлению тяжелобольного, - я послал, между прочим, два экземпляра и в Байрейт. Каким-то чудом смысла, проявившегося в случайности, до меня в то же время дошел прекрасный экземпляр текста Парсифаля с посвящением Вагнера мне - "моему дорогому другу Фридриху Ницше, Рихард Вагнер, церковный советник". - Это было скрещение двух книг - мне казалось, будто я слышал при этом зловещий звук. Не звучало ли это так, как если бы скрестились две шпаги?.. Во всяком случае мы оба так именно и восприняли это: ибо мы оба молчали. - К тому времени появились первые Байрейтские листки: я понял, чему настала пора. - Невероятно! Вагнер стал набожным... 6 Что я думал тогда (1876) о себе, с какой чудовищной уверенностью я держал в руках свою задачу и то, что было в ней всемирно-исторического, - об этом свидетельствует вся книга, и прежде всего одно очень выразительное в ней место: с инстинктивной во мне хитростью я и здесь вновь обошел словечко Я; но на сей раз не Шопенгауэра или Вагнера, а одного из моих друзей, превосходного доктора Пауля Рэ я озарил всемирно-исторической славой - к счастью, он оказался слишком тонким животным, чтобы... Другие были менее хитры: безнадежных среди моих читателей, например типичного немецкого профессора, я всегда узнавал по тому, что они, основываясь на этом месте, считали себя обязанными понимать всю книгу как высший рэализм. В действительности она заключала противоречие лишь пяти-шести тезисам моего друга: об этом можно прочесть в предисловии к "Генеалогии морали". - Это место гласит: каково же то главное положение, к которому пришел один из самых сильных и холодных мыслителей, автор книги "О происхождении моральных чувств" (lisez: Ницше, первый имморалист), с помощью своего острого и проницательного анализа человеческого поведения? "Моральный человек стоит не ближе к умопостигаемому миру, чем человек физический, - ибо не существует умопостигаемого мира"... Это положение, ставшее твердым и острым под ударами молота исторического познания (lisez: переоценки всех ценностей), может некогда в будущем - 1890! - послужить секирой, которая будет положена у корней "метафизической потребности" человечества, - на благо или проклятие человечеству, кто мог бы это сказать? Но во всяком случае, как положение, чреватое важнейшими последствиями, вместе плодотворное и ужасное и взирающее на мир тем двойственным взглядом, который бывает присущ всякому великому познанию...

МИФОЛОГИЯ






| ГОМЕР | ИЛИАДА | ОДИССЕЯ | ЗОЛОТОЕ РУНО | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ |
| БЕЛАЯ БОГИНЯ | МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ЦАРЬ ИИСУС |
МИФОЛОГИЯ \ФИЛОСОФИЯ\ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА\ ПСИХОЛОГИЯ

| РОБЕРТ ГРЕЙВС. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА |

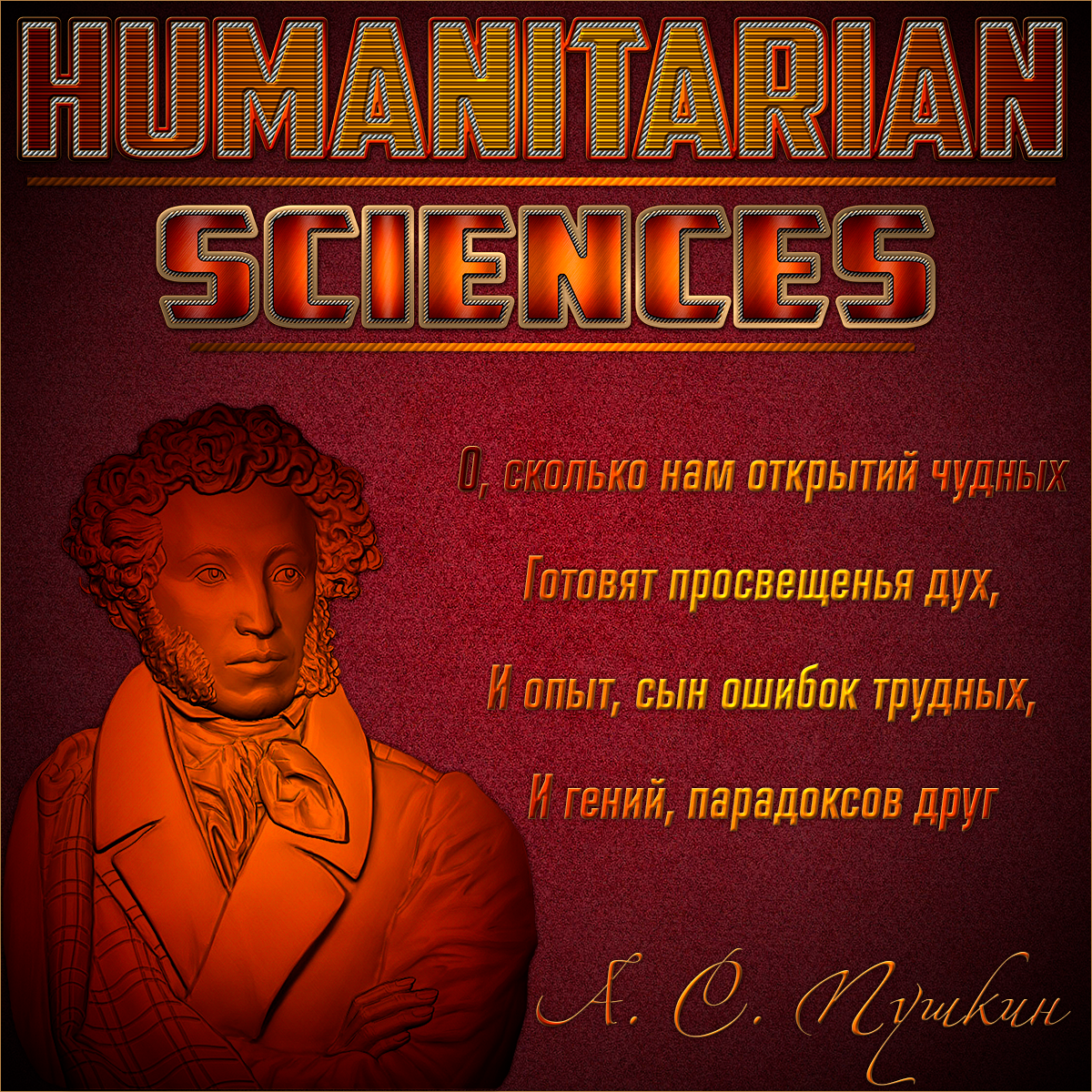











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ




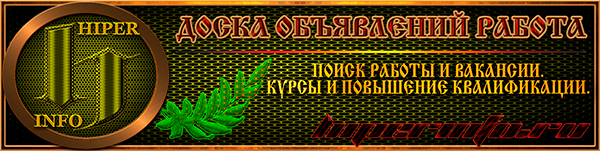

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
