- 1620 Просмотров
- Обсудить

НИЦШЕ \ НИЦШЕ (10)\НИЦШЕ (9)\НИЦШЕ (8)\НИЦШЕ (7)\НИЦШЕ (6)
НИЦШЕ (5)\НИЦШЕ (4)\НИЦШЕ (3)\НИЦШЕ (2)\НИЦШЕ
Воля к власти (0) Воля к власти (2) Воля к власти (3) Воля к власти (4) Воля к власти (5)
Воля к власти (6) Воля к власти (7) Воля к власти (8) Воля к власти (9) Воля к власти (10)
ФИЛОСОФИЯ \ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА \ ПСИХОЛОГИЯ
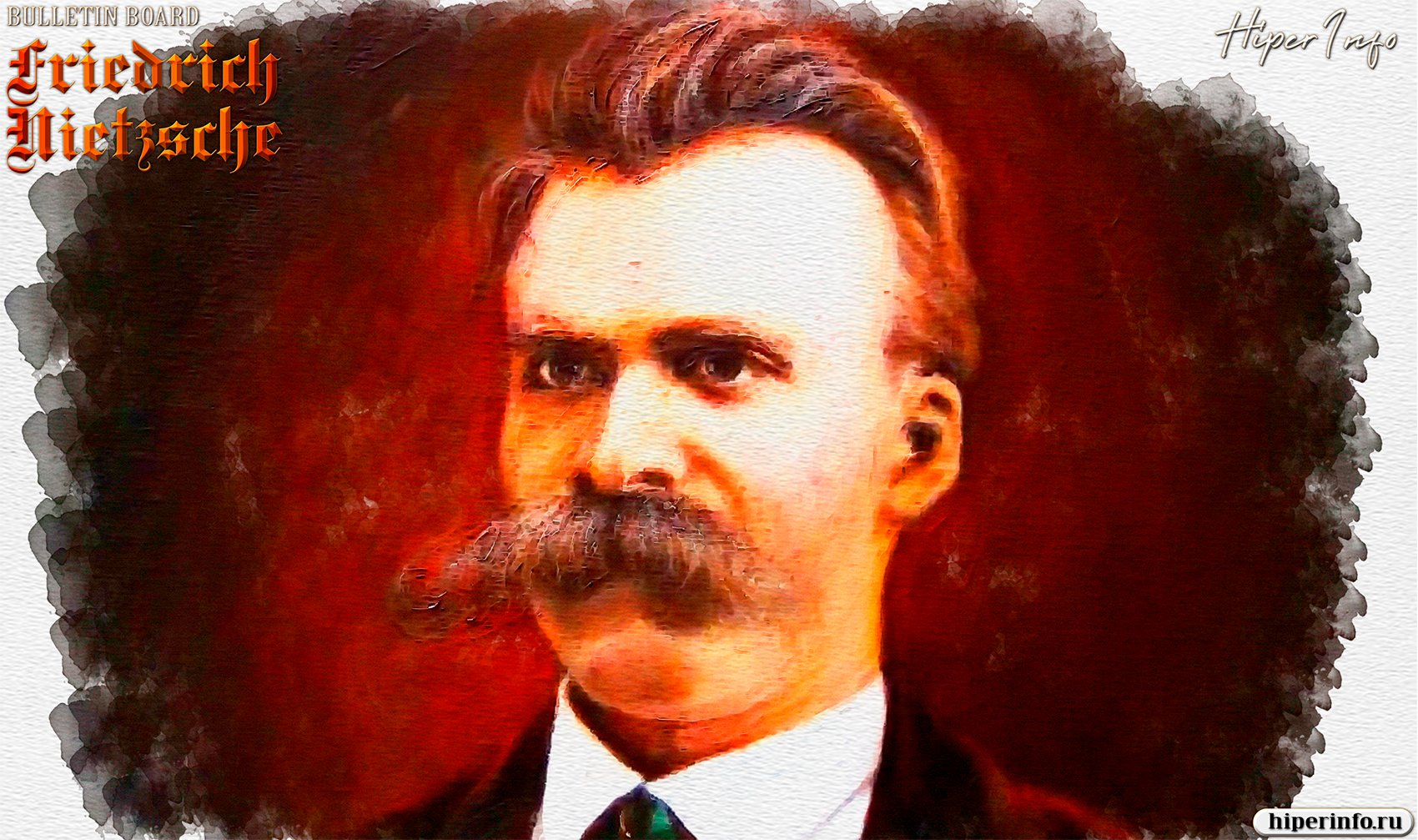
ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ГРУППА / ГРУППОВОЕ / КОЛЛЕКТИВ / КОЛЛЕКТИВНОЕ / СОЦИАЛЬНЫЙ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХИКА / ПСИХИЧЕСКИЙ / ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ / ПСИХОАНАЛИЗ
ФИЛОСОФИЯ / ЭТИКА / ЭСТЕТИКА / ФИЛОСОФ / ПСИХОЛОГ / ПОЭТ / ПИСАТЕЛЬ
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE / ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

НИЦШЕ / NIETZSCHE / ЕССЕ HOMO / ВОЛЯ К ВЛАСТИ / К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ / СУМЕРКИ ИДОЛОВ /
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА / ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА / ЗЛАЯ МУДРОСТЬ / УТРЕННЯЯ ЗАРЯ /
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ / СТИХИ НИЦШЕ / РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ




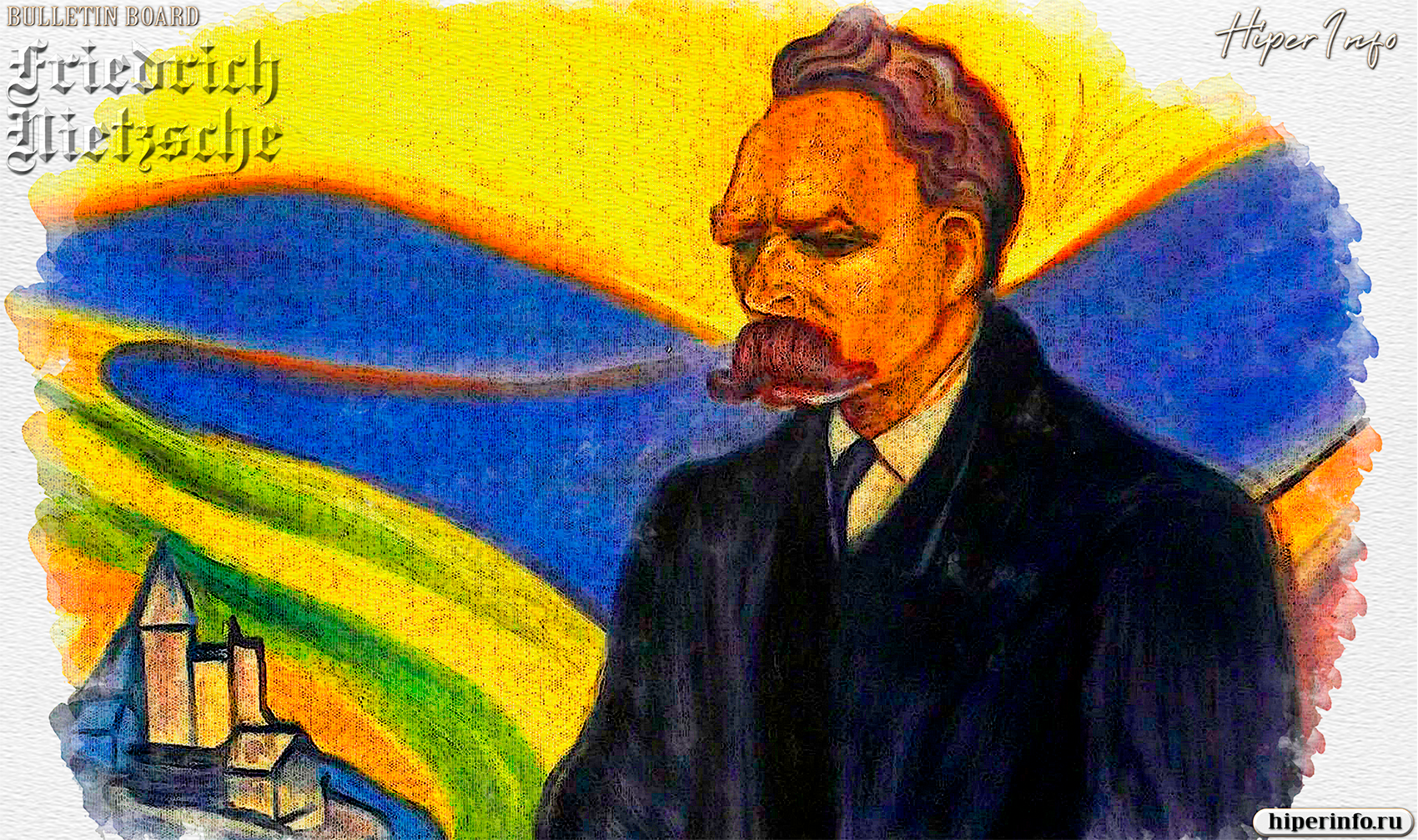




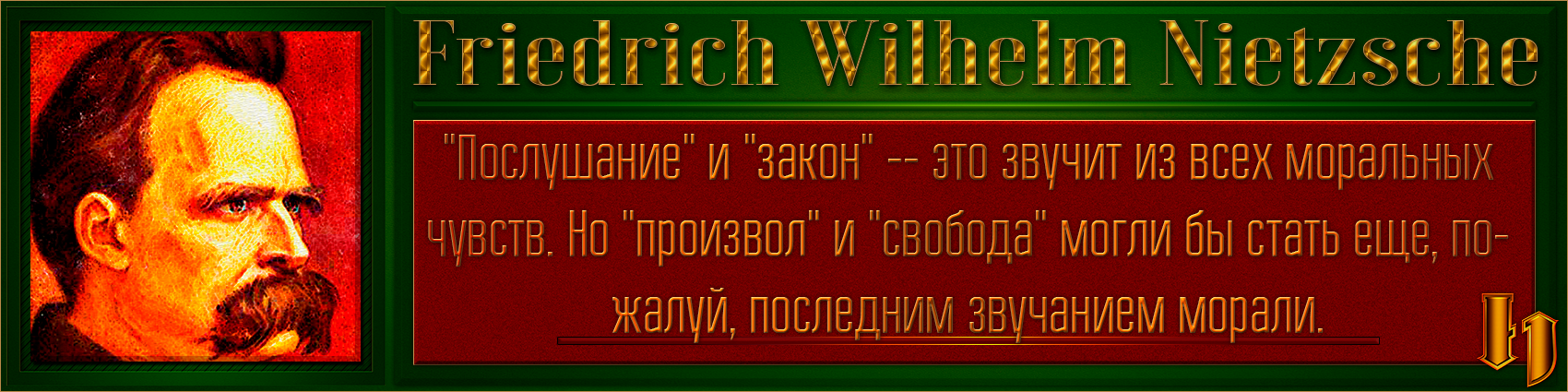


 Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше
ФРИДРИХ НИЦШЕ
Сумерки идолов
или как философствуют молотом

5
— Противопоставим же наконец этому, насколько иначе смотрим мы ( — я говорю из учтивости мы...) на проблему заблуждения и кажимости. Некогда считали изменение, смену, становление вообще доказательством кажимости, признаком того, что тут должно быть нечто вводящее нас в заблуждение. Нынче, напротив, мы видим ровно настолько, насколько предрассудок разума принуждает нас применять единство, идентичность, постоянство, субстанцию, причину, вещность, бытие, некоторым образом впутывает нас в заблуждение, приневоливает к заблуждению; как ни уверены мы на основании строгой проверки счета в том, что тут заблуждение. Дело с этим обстоит так же, как с движением солнца: там заблуждение имеет постоянным адвокатом наш глаз, здесь — наш язык. Язык, по его возникновению, относится ко времени рудиментарнейшей формы психологии: мы впадаем в грубый фетишизм, если вводим в наше сознание основные предположения метафизики языка, по-немецки: разума. Оно видит всюду делателя и делание: оно верит в волю как причину вообще; оно верит в «Я», в Я как бытие, в Я как субстанцию и проецирует веру в субстанцию-Я на все вещи — оно создает впервые этим понятие «вещь»... Бытие вмысливается, подсовывается всюду; из концепции «Я» вытекает впервые, как производное, понятие «бытия»... В начале стоит великое роковое заблуждение, что воля есть нечто действующее — что воля есть способность... Нынче мы знаем, что она — только слово... Гораздо позже среди в тысячу раз более просвещенного мира в сознание философов неожиданно проникла уверенность, субъективная достоверность в применении категорий разума: они пришли к заключению, что последние не могут вытекать из эмпирии — ведь вся эмпирия находится в противоречии с ними. Откуда же вытекают они? — И в Индии, как и в Греции, сделали одинаковый промах: «мы должны были уже некогда жить в высшем мире ( — вместо того, чтобы сказать — в гораздо более низшем: что было бы истиной!), мы должны были быть божественными, ибо мы имеем разум»!.. В самом деле, ничто до сих пор не имело более наивной силы убеждения, нежели заблуждение о бытии, как оно сформулировано, например, элеатами: ведь за него говорит каждое слово, каждое изрекаемое нами предложение! — Также и противники элеатов подчинялись обольщению их понятием бытия: в числе других и Демокрит, когда он измыслил свой атом... «Разум» в языке — о, что это за старый обманщик! Я боюсь, что мы не освободимся от Бога, потому что еще верим в грамматику...
6
Мне будут благодарны, если я выражу кратко столь существенное, столь новое уразумение в четырех тезисах: этим я облегчаю понимание, этим я вызываю возражение.
Первое положение. Основания, в силу которых «этот» мир получил название кажущегося, доказывают скорее его реальность, — иной вид реальности абсолютно недоказуем.
Второе положение. Признаки, которыми наделили «истинное бытие» вещей, суть признаки не-бытия, признаки, указывающие на ничто: «истинный мир» построили из противоречия действительному миру — вот в самом деле кажущийся мир, поскольку он является лишь морально-оптическим обманом.
Третье положение. Бредить об «ином» мире, чем этот, не имеет никакого смысла, предполагая, что мы не обуреваемы инстинктом оклеветания, унижения, опорочения жизни: в последнем случае мы мстим жизни фантасмагорией «иной», «лучшей» жизни.
Четвертое положение. Делить мир на «истинный» и «кажущийся», все равно, в духе ли христианства или в духе Канта (в конце концов коварного христианина — ), — это лишь внушение decadence — симптом нисходящей жизни... Что художник ценит кажимость выше реальности, это не возражение против данного положения. Ибо «кажимость» означает здесь реальность вдвойне, только избранную, усиленную, корректированную... Трагический художник вовсе не пессимист, он говорит как раз Да всему загадочному и страшному, он проникнут дионисическим духом...
КАК «ИСТИННЫЙ МИР» СТАЛ НАКОНЕЦ БАСНЕЙ.
История одного заблуждения
1. Истинный мир, достижимый для мудреца, для благочестивого, для добродетельного, — он живет в нем, он есть этот мир.
(Старейшая форма идеи, относительно умная, простая, убедительная. Перифраза положения: «я, Платон, есмь истина».)
2. Истинный мир, недостижимый нынче, но обетованный для мудреца, для благочестивого, для добродетельного («для грешника, который кается»).
(Прогресс идеи: она становится тоньше, запутаннее, непостижимее, — она становится женщиной, она становится христианской...)
3. Истинный мир, недостижимый, недоказуемый, немогущий быть обетованным, но уже, как мыслимый, утешение, долг, императив.
(Старое солнце, в сущности, но светящее сквозь туман и скепсис: идея, ставшая возвышенной, бледной, северной, кёнигсбергской.)
4. Истинный мир — недостижимый? Во всяком случае недостигнутый. И как недостигнутый, также неведомый. Следовательно, также не утешающий, не спасающий, не обязывающий: к чему может обязывать нас нечто неведомое?..
(Серое утро. Первое позевывание разума. Петуший крик позитивизма.)
5. «Истинный мир» — идея, ни к чему больше не нужная, даже более не обязывающая, — ставшая бесполезной, ставшая лишней идея, следовательно, опровергнутая идея — упраздним ее!
(Светлый день; завтрак; возвращение bon sens и веселости; краска стыда Платона; дьявольский шум всех свободных умов.)
6. Мы упразднили истинный мир — какой же мир остался? быть может, кажущийся?.. Но нет! вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся!
(Полдень; мгновение самой короткой тени; конец самого долгого заблуждения; кульминационный пункт человечества; INCIPIT ZARATHUSTRA.)
МОРАЛЬ КАК ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОСТЬ
1
У всех страстей бывает пора, когда они являются только роковыми, когда они с тяжеловесностью глупости влекут свою жертву вниз, — и более поздняя, гораздо более поздняя пора, когда они соединяются брачными узами с духом, когда они «одухотворяются». Некогда из-за глупости, заключающейся в страсти, объявляли войну самой страсти: давали клятву уничтожить её, — все старые чудовища морали сходятся в том, что «il faut tuer les passions». Самая знаменитая формула на этот счёт находится в Новом Завете, в той Нагорной проповеди, где, кстати сказать, вещи рассматриваются отнюдь не с высоты. Там, например, говорится в применении к половому чувству: «если око твоё соблазняет тебя, вырви его» — к счастью, ни один христианин не поступает по этому предписанию. Уничтожать страсти и вожделения только для того, чтобы предотвратить их глупость и неприятные последствия этой глупости, кажется нам нынче в свою очередь только острой формой глупости. Мы уже не удивляемся зубным врачам, которые вырывают зубы, чтобы они больше не болели... С другой стороны, нельзя не признать с некоторой справедливостью, что на той почве, из которой выросло христианство, вовсе не может иметь места концепция понятия «одухотворение страсти». Ведь, как известно, первая церковь боролась против «интеллигентных» на благо «нищих духом»; как же можно было ожидать от неё интеллигентной войны со страстью? — Церковь побеждает страсть вырезыванием во всех смыслах: её практика, её «лечение» есть кастрация. Она никогда не спрашивает: «как одухотворяют, делают прекрасным, обожествляют вожделение?» — она во все времена полагала силу дисциплины в искоренении (чувственности, гордости, властолюбия, алчности, мстительности). — Но подрывать корень страстей значит подрывать корень жизни: практика церкви враждебна жизни...
2
То же самое средство: оскопление, искоренение — инстинктивно выбирается в борьбе с каким-нибудь вожделением теми, которые слишком слабовольны, слишком выродились, чтобы быть в состоянии соблюдать в нем меру; теми натурами, которым нужна la Trappe, говоря иносказательно (и без иносказания — ), какой-нибудь окончательный разрыв, пропасть между собою и страстью. Без радикальных средств не могут обойтись лишь дегенераты; слабость воли, говоря точнее, неспособность не реагировать на раздражение, есть в свою очередь только другая форма вырождения. Радикальная вражда, смертельная вражда к чувственности остается наводящим на размышление симптомом: он дает право на предположения относительно общего состояния до такой степени эксцессивного человека. — Впрочем, эта вражда, эта ненависть только тогда достигает своего апогея, когда такие натуры сами уже не имеют достаточной твердости для радикального лечения, для отречения от своего «дьявола». Просмотрите всю историю жрецов и философов, причисляя сюда и художников: самое ядовитое слово против чувств сказано не импотентами, также не аскетами, а невозможными аскетами, такими людьми, которым понадобилось бы быть аскетами...
3
Одухотворение чувственности называется любовью: оно является великим торжеством над христианством. Другим торжеством является наше одухотворение вражды. Оно состоит в глубоком понимании ценности иметь врагов: словом, в том, что поступаешь и умозаключаешь обратно тому, как поступали и умозаключали некогда. Церковь хотела во все времена уничтожения своих врагов — мы же, мы, имморалисты и антихристиане, видим нашу выгоду в том, чтобы церковь продолжала существовать... Также и в области политики вражда стала теперь одухотвореннее — гораздо благоразумнее, гораздо рассудительнее, гораздо снисходительнее. Почти каждая партия видит интерес своего самосохранения в том, чтобы противная партия не потеряла силы; то же самое можно сказать и о большой политике. В особенности новое создание, например новая империя, нуждается более во врагах, нежели в друзьях: только в контрасте чувствует она себя необходимой, только в контрасте становится она необходимой... Не иначе относимся мы и к «внутреннему врагу»: и тут мы одухотворили вражду, и тут мы постигли её ценность. Являешься плодовитым лишь в силу того, что богат контрастами; остаёшься молодым лишь при условии, что душа не ложится врастяжку, не жаждет мира... Ничто не стало нам более чуждым, чем эта давняя желательность, желательность «мира души», христианская желательность; ничто не возбуждает в нас менее зависти, чем моральная корова и жирное счастье чистой совести. Отказываешься от великой жизни, если отказываешься от войны... Во многих случаях, конечно, «мир души» является просто недоразумением — кое-чем иным, что не умеет только назвать себя честнее. Без лишних слов и предрассудков приведу несколько случаев. «Мир души» может быть, например, мягким излучением богатой животности в область морального (или религиозного). Или началом усталости, первой тенью, которую бросает вечер, всякого рода вечер. Или признаком того, что воздух становится влажным, что приближаются южные ветры. Или бессознательной благодарностью за удачное пищеварение (порою называемой «человеколюбием»). Или успокоением выздоравливающего, для которого все вещи приобретают новый вкус и который ждёт... Или состоянием, следующим за сильным удовлетворением нашей господствующей страсти, приятным чувством редкой сытости. Или старческой слабостью нашей воли, наших вожделений, наших пороков. Или ленью, которую тщеславие убедило вырядиться в моральном стиле. Или наступлением уверенности, даже страшной уверенности, после долгого напряжения и мучения вследствие неуверенности. Или выражением зрелости и мастерства в делании, созидании, воспроизведении, хотении, спокойным дыханием, достигнутой «свободой воли»... Сумерки идолов: кто знает? быть может, это тоже лишь известный вид «мира души»...
4
— Я формулирую один принцип. Всякий натурализм в морали, т. е. всякая здоровая мораль, подчиняется инстинкту жизни, — какая-нибудь заповедь жизни исполняется определённым каноном о «должен» и «не должен», какое-нибудь затруднение или враждебность на пути жизни устраняется этим. Противоестественная мораль, т. е. почти всякая мораль, которой до сих пор учили, которую чтили и проповедовали, направлена, наоборот, как раз против инстинктов жизни — она является то тайным, то явным и дерзким осуждением этих инстинктов. Говоря, что «Бог читает в сердце», она говорит Нет низшим и высшим вожделениям жизни и считает Бога врагом жизни... Святой, угодный Богу, есть идеальный кастрат... Жизнь кончается там, где начинается «Царствие Божие»...
5
Если предположить, что понята преступность такого восстания против жизни, которое стало почти священным в христианской морали, то вместе с этим, к счастью, понято также нечто другое: бесполезность, иллюзорность, абсурдность, лживость такого восстания. Осуждение жизни со стороны живущего остаётся в конце концов лишь симптомом известного вида жизни: вопрос о справедливости или несправедливости тут совершенно не ставится. Надо было бы занимать позицию вне жизни и, с другой стороны, знать её так же хорошо, как один, как многие, как все, которые её прожили, чтобы вообще сметь касаться проблем ценности жизни — достаточные основания для того, чтобы понять, что эта проблема для нас недоступна. Говоря о ценностях, мы говорим под влиянием инспирации, под влиянием оптики жизни: сама жизнь принуждает нас устанавливать ценности, сама жизнь ценит через нас, когда мы определяем ценности... Отсюда следует, что и та противоестественная мораль, которая понимает Бога как противопонятие и осуждение жизни, есть лишь оценка, производимая жизнью — какой жизнью? каким видом жизни? — Но я уже дал ответ на это: нисходящей, расслабленной, усталой, осуждённой жизнью. Мораль, как её понимали до сих пор — как напоследок её формулировал ещё и Шопенгауэр в качестве «отрицания воли к жизни», — есть сам инстинкт decadence, делающий из себя императив; она говорит: «погибни!» — она есть приговор осуждённых...
6
Вникнем же наконец в то, какая наивность вообще говорить: «человек должен бы быть таким-то и таким-то!» Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь расточительной игры и смены форм; а какой-нибудь несчастный подёнщик-моралист говорит на это: «Нет! человек должен бы быть иным»?.. Он даже знает, каким он должен бы быть, этот лизоблюд и пустосвят, он малюет себя на стене и говорит при этом «ессе homo»!.. Но даже когда моралист обращается к отдельному человеку и говорит ему: «Ты должен бы быть таким-то и таким-то!» — он не перестаёт делать себя посмешищем. Индивид есть частица фатума во всех отношениях, лишний закон, лишняя необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему: «изменись» — значит требовать, чтобы всё изменилось, даже вспять... И действительно, были последовательные моралисты, они хотели видеть человека иным, именно добродетельным, они хотели видеть в нём своё подобие, именно пустосвята: для этого они отрицали мир! Не малое безумие! Вовсе не скромный вид нескромности!.. Мораль, поскольку она осуждает, сама по себе, а не из видов, соображений, целей жизни, есть специфическое заблуждение, к которому не должно питать никакого сострадания, идиосинкразия дегенератов, причинившая невыразимое количество вреда!.. Мы, иные люди, мы, имморалисты, наоборот, раскрыли наше сердце всякому пониманию, постижению, одобрению. Мы отрицаем не легко, мы ищем нашей чести в том, чтобы быть утверждающими. Всё больше раскрываются наши глаза на ту экономию, которая нуждается и умеет пользоваться даже всем тем, что отвергает святое сумасбродство жреца, больного разума в жреце, на ту экономию в законе жизни, которая извлекает свою выгоду даже из отвратительной специи пустосвята, жреца, добродетельного, — какую выгоду? — Но сами мы, мы, имморалисты, являемся ответом на это...
ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИХ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
1
Заблуждение, заключающееся в смешивании причины и следствия. Нет более опасного заблуждения, чем смешивать следствие с причиной: я называю его подлинной испорченностью разума. Тем не менее это заблуждение принадлежит к числу древнейших и позднейших привычек человечества: оно даже освящено у нас, оно носит название «религии»-«морали». Каждое положение, формулируемое религией и моралью, содержит его в себе; жрецы и законодатели нравственности являются виновниками этой испорченности разума. — Приведу пример. Всякий знает книгу знаменитого Корнаро, в которой он рекомендует свою скудную диету как рецепт для долгой и счастливой — а также добродетельной — жизни. Не многие книги находили столько читателей, как эта; она ещё и теперь печатается в Англии ежегодно во многих тысячах экземпляров. Не сомневаюсь в том, что едва ли какая-нибудь книга (разумеется, исключая Библию) причинила столько бедствий, сократила столько жизней, как это столь благонамеренное curiosum. Основание этого: смешивание следствия с причиной. Честный итальянец видел в своей диете причину своей долгой жизни: тогда как предусловие долгой жизни — чрезвычайная медленность обмена веществ, малая трата была причиной его скудной диеты. Он не был волен есть мало или много, его умеренность была не «свободной волей»: он становился больным, когда ел больше. Но кто не карп, тому не только хорошо, но и нужно есть как следует. Учёный наших дней, при быстром расходовании своей нервной силы, погубил бы себя этим regime Корнаро. Crede experto. —
2
Самая общая формула, лежащая в основе всякой религии и морали, гласит: «делай то-то и то-то, не делай того-то и того-то — и ты будешь счастлив! В противном случае...» Каждая мораль, каждая религия есть этот императив — я называю его великим наследственным грехом разума, бессмертным неразумием. В моих устах эта формула превращается в обратную ей — первый пример моей «переоценки всех ценностей»: удачный человек, «счастливец», должен совершать известные поступки и инстинктивно боится иных поступков, он вносит порядок, который он физиологически являет собою, в свои отношения к людям и вещам. Формулируя это: его добродетель есть следствие его счастья... Долгая жизнь, многочисленное потомство не есть награда за добродетель, скорее сама добродетель есть то замедление обмена веществ, которое, между прочим, имеет следствием также долгую жизнь, многочисленное потомство, словом, корнаризм. — Церковь и мораль говорят: «род, народ гибнет от порока и роскоши». Мой восстановленный разум говорит: если народ гибнет, физиологически вырождается, то из этого вытекают порок и роскошь (т. е. потребность всё в более сильных и частых раздражениях, которая знакома всякой истощённой натуре). Этот молодой человек рано становится бледным и вялым. Его друзья говорят: этому причина такая-то и такая-то болезнь. Я говорю: что он стал больным, что он не мог сопротивляться болезни, было уже следствие оскудевшей жизни, наследственного истощения. Читатель газет говорит: эта партия губит себя такой ошибкой. Моя высшая политика говорит: партия, делающая такую ошибку, находится на краю гибели — она уже не обладает уверенностью своего инстинкта. Каждая ошибка во всяком смысле есть следствие вырождения инстинкта, дисгрегации воли: этим почти определяется дурное. Всё хорошее есть инстинкт — и, следовательно, легко, необходимо, свободно. Тягостный труд есть возражение, Бог имеет типичное отличие от героя (на моём языке: лёгкие ноги суть первый атрибут божественности).
3
Заблуждение ложной причинности. Во все времена полагали, что знают, что такое причина, — но откуда взяли мы это знание, точнее, нашу веру, что мы знаем это? Из области знаменитых «внутренних фактов», из которых ни один до сих пор не выказал своей фактичности. Мы воображали самих себя причинными в акте воли; мы полагали по меньшей мере, что поймали тут причинность с поличным. Равным образом не сомневались в том, что все antecedentia поступка, его причины, надо искать в сознании и что они найдутся там, если их поискать — в качестве «мотивов»: иначе ведь мы не были бы свободны совершить поступок, не были бы ответственны за него. Наконец, кто станет оспаривать, что мысль причиняется? что Я производит мысль?.. Из этих трех «внутренних фактов», которые, по-видимому, служили ручательством за причинность, первым и самым убедительным является факт воли как причины; концепция сознания («духа») как причины, а еще позже концепция Я («субъекта») как причины родились лишь впоследствии, после того как относительно воли причинность была установлена как данная, как эмпирия... Между тем мы лучше обдумали этот вопрос. Мы не верим нынче ни одному слову из всего этого. «Внутренний мир» полон призраков и блуждающих огней: воля есть один из них. Воля уже более ничем не движет, следовательно, также ничего более не объясняет — она только сопровождает события, она может также и отсутствовать. Так называемый «мотив» — другое заблуждение. Просто поверхностный феномен сознания, спутник деяния, который скорее прикрывает antecedentia деяния, нежели выставляет их. И даже Я! Оно стало басней, фикцией, игрой слов: оно совершенно перестало мыслить, чувствовать и хотеть!.. Что отсюда следует? Нет никаких духовных причин! Вся мнимая эмпирия в пользу этого пошла к черту! Вот что отсюда следует! — И мы мило злоупотребляли этой «эмпирией», мы создали на основании ее мир как мир причин, как мир воли, как мир духов. Над этим работала самая древняя и самая продолжительная психология, она не делала ничего другого: всякое совершение стало для нее действием, всякое действие следствием воли, мир стал для нее множеством действующих лиц, действующее лицо («субъект») подсовывало себя под каждое совершение. Человек выпроецировал из себя свои три «внутренних факта», то, во что он тверже всего верил, — волю, дух, Я; он выудил понятие «бытие» впервые из понятия Я, он понял «вещи», как нечто сущее, по своему подобию, по своему понятию Я как причины. Что же удивительного, если он позже всегда лишь находил в вещах то, что вложил в них? — Сама вещь, повторяю, понятие «вещь», просто рефлекс веры в Я как причину... И даже еще ваш атом, господа механики и физики, сколько заблуждения, сколько рудиментарной психологии осталось еще в вашем атоме! — Не говоря уже о «вещи в себе», horrendum pudendum метафизиков! Заблуждение о духе как причине смешать с реальностью! И сделать мерилом реальности! И назвать Богом! —
4
Заблуждение воображаемой причинности. Начнём со сновидения: под какое-нибудь определённое ощущение, например от отдалённого пушечного выстрела, задним числом подсовывается причина (часто целый маленький роман, в котором именно грезящий является главным лицом). Между тем ощущение продолжается, как бы в виде резонанса: оно как бы ждёт, пока инстинкт причины позволит ему выступить на передний план — теперь уже не в качестве случая, а в качестве «смысла». Пушечный выстрел выступает на сцену каузальным путём, в кажущемся обратном течении времени. Более позднее, мотивация, переживается раньше, часто с сотней подробностей, протекающих с быстротою молнии, выстрел следует... Что же случилось? Представления, порождённые известным состоянием, были ложно поняты как его причина. — Фактически мы делаем во время бдения то же самое. Большая часть наших общих чувств — всякого вида затруднение, гнёт, напряжение, взрыв в перекрёстной игре органов, в особенности же состояние nervus sympathicus — возбуждают наш инстинкт причины: мы хотим иметь основание того, что чувствуем себя так-то и так-то — чувствуем себя дурно или хороню. Нам никогда не бывает достаточно просто лишь установить факт, что мы чувствуем себя так-то и так-то: мы допускаем этот факт — сознаём его — лишь тогда, когда дали ему нечто вроде мотивировки. — Воспоминание, начинающее действовать в таких случаях без нашего ведома, приводит прежние состояния подобного рода и сросшиеся с ними каузальные толкования — не их причинность. Конечно, вера в то, что представления, что сопровождающие явления сознания были причинами, также всплывает благодаря воспоминанию. Так возникает привычка к известному причино-толкованию, которая в действительности затрудняет исследование причины и даже исключает его.
5
Психологическое объяснение этого. Сведение чего-нибудь незнакомого к чему-нибудь знакомому облегчает, успокаивает, умиротворяет, кроме того, даёт чувство власти. Незнакомое приносит с собою опасность, беспокойство, заботу — первый инстинкт направляется к тому, чтобы устранить тягостное состояние. Первый принцип: какое-нибудь объяснение лучше, чем никакое. Так как дело идет, в сущности, лишь о желании освободиться от угнетающих представлений, то в средствах освободиться от них не бывают очень-то разборчивы: первое представление, которым незнакомое объясняется как знакомое, действует так благотворно, что его «считают истинным». Доказательство от удовольствия («силы») как критерий истины. — Итак, инстинкт причины обусловливается и возбуждается чувством страха. «Почему?» должно, если только возможно, не столько давать причину ради нее самой, сколько скорее нечто вроде причины — успокаивающую, освобождающую, облегчающую причину. Что нечто уже знакомое, пережитое, записанное в воспоминании прилагается в качестве причины, это первое следствие такой потребности. Новое, неизведанное, чуждое исключается как причина. — Таким образом в качестве причины ищется не только какой-нибудь вид объяснений, а избранный и привилегированный вид объяснений, таких, при которых быстрее всего, чаще всего устраняется чувство чуждого, нового, неизведанного, — обычнейших объяснений. — Следствие: один вид установления причин перевешивает все более, концентрируется в систему и, наконец, выступает доминирующим, т. е. просто исключающим другие причины и объяснения. — Банкир сейчас же думает о «деле», христианин — о «грехе», девушка — о своей любви.
— Противопоставим же наконец этому, насколько иначе смотрим мы ( — я говорю из учтивости мы...) на проблему заблуждения и кажимости. Некогда считали изменение, смену, становление вообще доказательством кажимости, признаком того, что тут должно быть нечто вводящее нас в заблуждение. Нынче, напротив, мы видим ровно настолько, насколько предрассудок разума принуждает нас применять единство, идентичность, постоянство, субстанцию, причину, вещность, бытие, некоторым образом впутывает нас в заблуждение, приневоливает к заблуждению; как ни уверены мы на основании строгой проверки счета в том, что тут заблуждение. Дело с этим обстоит так же, как с движением солнца: там заблуждение имеет постоянным адвокатом наш глаз, здесь — наш язык. Язык, по его возникновению, относится ко времени рудиментарнейшей формы психологии: мы впадаем в грубый фетишизм, если вводим в наше сознание основные предположения метафизики языка, по-немецки: разума. Оно видит всюду делателя и делание: оно верит в волю как причину вообще; оно верит в «Я», в Я как бытие, в Я как субстанцию и проецирует веру в субстанцию-Я на все вещи — оно создает впервые этим понятие «вещь»... Бытие вмысливается, подсовывается всюду; из концепции «Я» вытекает впервые, как производное, понятие «бытия»... В начале стоит великое роковое заблуждение, что воля есть нечто действующее — что воля есть способность... Нынче мы знаем, что она — только слово... Гораздо позже среди в тысячу раз более просвещенного мира в сознание философов неожиданно проникла уверенность, субъективная достоверность в применении категорий разума: они пришли к заключению, что последние не могут вытекать из эмпирии — ведь вся эмпирия находится в противоречии с ними. Откуда же вытекают они? — И в Индии, как и в Греции, сделали одинаковый промах: «мы должны были уже некогда жить в высшем мире ( — вместо того, чтобы сказать — в гораздо более низшем: что было бы истиной!), мы должны были быть божественными, ибо мы имеем разум»!.. В самом деле, ничто до сих пор не имело более наивной силы убеждения, нежели заблуждение о бытии, как оно сформулировано, например, элеатами: ведь за него говорит каждое слово, каждое изрекаемое нами предложение! — Также и противники элеатов подчинялись обольщению их понятием бытия: в числе других и Демокрит, когда он измыслил свой атом... «Разум» в языке — о, что это за старый обманщик! Я боюсь, что мы не освободимся от Бога, потому что еще верим в грамматику...
6
Мне будут благодарны, если я выражу кратко столь существенное, столь новое уразумение в четырех тезисах: этим я облегчаю понимание, этим я вызываю возражение.
Первое положение. Основания, в силу которых «этот» мир получил название кажущегося, доказывают скорее его реальность, — иной вид реальности абсолютно недоказуем.
Второе положение. Признаки, которыми наделили «истинное бытие» вещей, суть признаки не-бытия, признаки, указывающие на ничто: «истинный мир» построили из противоречия действительному миру — вот в самом деле кажущийся мир, поскольку он является лишь морально-оптическим обманом.
Третье положение. Бредить об «ином» мире, чем этот, не имеет никакого смысла, предполагая, что мы не обуреваемы инстинктом оклеветания, унижения, опорочения жизни: в последнем случае мы мстим жизни фантасмагорией «иной», «лучшей» жизни.
Четвертое положение. Делить мир на «истинный» и «кажущийся», все равно, в духе ли христианства или в духе Канта (в конце концов коварного христианина — ), — это лишь внушение decadence — симптом нисходящей жизни... Что художник ценит кажимость выше реальности, это не возражение против данного положения. Ибо «кажимость» означает здесь реальность вдвойне, только избранную, усиленную, корректированную... Трагический художник вовсе не пессимист, он говорит как раз Да всему загадочному и страшному, он проникнут дионисическим духом...
КАК «ИСТИННЫЙ МИР» СТАЛ НАКОНЕЦ БАСНЕЙ.
История одного заблуждения
1. Истинный мир, достижимый для мудреца, для благочестивого, для добродетельного, — он живет в нем, он есть этот мир.
(Старейшая форма идеи, относительно умная, простая, убедительная. Перифраза положения: «я, Платон, есмь истина».)
2. Истинный мир, недостижимый нынче, но обетованный для мудреца, для благочестивого, для добродетельного («для грешника, который кается»).
(Прогресс идеи: она становится тоньше, запутаннее, непостижимее, — она становится женщиной, она становится христианской...)
3. Истинный мир, недостижимый, недоказуемый, немогущий быть обетованным, но уже, как мыслимый, утешение, долг, императив.
(Старое солнце, в сущности, но светящее сквозь туман и скепсис: идея, ставшая возвышенной, бледной, северной, кёнигсбергской.)
4. Истинный мир — недостижимый? Во всяком случае недостигнутый. И как недостигнутый, также неведомый. Следовательно, также не утешающий, не спасающий, не обязывающий: к чему может обязывать нас нечто неведомое?..
(Серое утро. Первое позевывание разума. Петуший крик позитивизма.)
5. «Истинный мир» — идея, ни к чему больше не нужная, даже более не обязывающая, — ставшая бесполезной, ставшая лишней идея, следовательно, опровергнутая идея — упраздним ее!
(Светлый день; завтрак; возвращение bon sens и веселости; краска стыда Платона; дьявольский шум всех свободных умов.)
6. Мы упразднили истинный мир — какой же мир остался? быть может, кажущийся?.. Но нет! вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся!
(Полдень; мгновение самой короткой тени; конец самого долгого заблуждения; кульминационный пункт человечества; INCIPIT ZARATHUSTRA.)
МОРАЛЬ КАК ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОСТЬ
1
У всех страстей бывает пора, когда они являются только роковыми, когда они с тяжеловесностью глупости влекут свою жертву вниз, — и более поздняя, гораздо более поздняя пора, когда они соединяются брачными узами с духом, когда они «одухотворяются». Некогда из-за глупости, заключающейся в страсти, объявляли войну самой страсти: давали клятву уничтожить её, — все старые чудовища морали сходятся в том, что «il faut tuer les passions». Самая знаменитая формула на этот счёт находится в Новом Завете, в той Нагорной проповеди, где, кстати сказать, вещи рассматриваются отнюдь не с высоты. Там, например, говорится в применении к половому чувству: «если око твоё соблазняет тебя, вырви его» — к счастью, ни один христианин не поступает по этому предписанию. Уничтожать страсти и вожделения только для того, чтобы предотвратить их глупость и неприятные последствия этой глупости, кажется нам нынче в свою очередь только острой формой глупости. Мы уже не удивляемся зубным врачам, которые вырывают зубы, чтобы они больше не болели... С другой стороны, нельзя не признать с некоторой справедливостью, что на той почве, из которой выросло христианство, вовсе не может иметь места концепция понятия «одухотворение страсти». Ведь, как известно, первая церковь боролась против «интеллигентных» на благо «нищих духом»; как же можно было ожидать от неё интеллигентной войны со страстью? — Церковь побеждает страсть вырезыванием во всех смыслах: её практика, её «лечение» есть кастрация. Она никогда не спрашивает: «как одухотворяют, делают прекрасным, обожествляют вожделение?» — она во все времена полагала силу дисциплины в искоренении (чувственности, гордости, властолюбия, алчности, мстительности). — Но подрывать корень страстей значит подрывать корень жизни: практика церкви враждебна жизни...
2
То же самое средство: оскопление, искоренение — инстинктивно выбирается в борьбе с каким-нибудь вожделением теми, которые слишком слабовольны, слишком выродились, чтобы быть в состоянии соблюдать в нем меру; теми натурами, которым нужна la Trappe, говоря иносказательно (и без иносказания — ), какой-нибудь окончательный разрыв, пропасть между собою и страстью. Без радикальных средств не могут обойтись лишь дегенераты; слабость воли, говоря точнее, неспособность не реагировать на раздражение, есть в свою очередь только другая форма вырождения. Радикальная вражда, смертельная вражда к чувственности остается наводящим на размышление симптомом: он дает право на предположения относительно общего состояния до такой степени эксцессивного человека. — Впрочем, эта вражда, эта ненависть только тогда достигает своего апогея, когда такие натуры сами уже не имеют достаточной твердости для радикального лечения, для отречения от своего «дьявола». Просмотрите всю историю жрецов и философов, причисляя сюда и художников: самое ядовитое слово против чувств сказано не импотентами, также не аскетами, а невозможными аскетами, такими людьми, которым понадобилось бы быть аскетами...
3
Одухотворение чувственности называется любовью: оно является великим торжеством над христианством. Другим торжеством является наше одухотворение вражды. Оно состоит в глубоком понимании ценности иметь врагов: словом, в том, что поступаешь и умозаключаешь обратно тому, как поступали и умозаключали некогда. Церковь хотела во все времена уничтожения своих врагов — мы же, мы, имморалисты и антихристиане, видим нашу выгоду в том, чтобы церковь продолжала существовать... Также и в области политики вражда стала теперь одухотвореннее — гораздо благоразумнее, гораздо рассудительнее, гораздо снисходительнее. Почти каждая партия видит интерес своего самосохранения в том, чтобы противная партия не потеряла силы; то же самое можно сказать и о большой политике. В особенности новое создание, например новая империя, нуждается более во врагах, нежели в друзьях: только в контрасте чувствует она себя необходимой, только в контрасте становится она необходимой... Не иначе относимся мы и к «внутреннему врагу»: и тут мы одухотворили вражду, и тут мы постигли её ценность. Являешься плодовитым лишь в силу того, что богат контрастами; остаёшься молодым лишь при условии, что душа не ложится врастяжку, не жаждет мира... Ничто не стало нам более чуждым, чем эта давняя желательность, желательность «мира души», христианская желательность; ничто не возбуждает в нас менее зависти, чем моральная корова и жирное счастье чистой совести. Отказываешься от великой жизни, если отказываешься от войны... Во многих случаях, конечно, «мир души» является просто недоразумением — кое-чем иным, что не умеет только назвать себя честнее. Без лишних слов и предрассудков приведу несколько случаев. «Мир души» может быть, например, мягким излучением богатой животности в область морального (или религиозного). Или началом усталости, первой тенью, которую бросает вечер, всякого рода вечер. Или признаком того, что воздух становится влажным, что приближаются южные ветры. Или бессознательной благодарностью за удачное пищеварение (порою называемой «человеколюбием»). Или успокоением выздоравливающего, для которого все вещи приобретают новый вкус и который ждёт... Или состоянием, следующим за сильным удовлетворением нашей господствующей страсти, приятным чувством редкой сытости. Или старческой слабостью нашей воли, наших вожделений, наших пороков. Или ленью, которую тщеславие убедило вырядиться в моральном стиле. Или наступлением уверенности, даже страшной уверенности, после долгого напряжения и мучения вследствие неуверенности. Или выражением зрелости и мастерства в делании, созидании, воспроизведении, хотении, спокойным дыханием, достигнутой «свободой воли»... Сумерки идолов: кто знает? быть может, это тоже лишь известный вид «мира души»...
4
— Я формулирую один принцип. Всякий натурализм в морали, т. е. всякая здоровая мораль, подчиняется инстинкту жизни, — какая-нибудь заповедь жизни исполняется определённым каноном о «должен» и «не должен», какое-нибудь затруднение или враждебность на пути жизни устраняется этим. Противоестественная мораль, т. е. почти всякая мораль, которой до сих пор учили, которую чтили и проповедовали, направлена, наоборот, как раз против инстинктов жизни — она является то тайным, то явным и дерзким осуждением этих инстинктов. Говоря, что «Бог читает в сердце», она говорит Нет низшим и высшим вожделениям жизни и считает Бога врагом жизни... Святой, угодный Богу, есть идеальный кастрат... Жизнь кончается там, где начинается «Царствие Божие»...
5
Если предположить, что понята преступность такого восстания против жизни, которое стало почти священным в христианской морали, то вместе с этим, к счастью, понято также нечто другое: бесполезность, иллюзорность, абсурдность, лживость такого восстания. Осуждение жизни со стороны живущего остаётся в конце концов лишь симптомом известного вида жизни: вопрос о справедливости или несправедливости тут совершенно не ставится. Надо было бы занимать позицию вне жизни и, с другой стороны, знать её так же хорошо, как один, как многие, как все, которые её прожили, чтобы вообще сметь касаться проблем ценности жизни — достаточные основания для того, чтобы понять, что эта проблема для нас недоступна. Говоря о ценностях, мы говорим под влиянием инспирации, под влиянием оптики жизни: сама жизнь принуждает нас устанавливать ценности, сама жизнь ценит через нас, когда мы определяем ценности... Отсюда следует, что и та противоестественная мораль, которая понимает Бога как противопонятие и осуждение жизни, есть лишь оценка, производимая жизнью — какой жизнью? каким видом жизни? — Но я уже дал ответ на это: нисходящей, расслабленной, усталой, осуждённой жизнью. Мораль, как её понимали до сих пор — как напоследок её формулировал ещё и Шопенгауэр в качестве «отрицания воли к жизни», — есть сам инстинкт decadence, делающий из себя императив; она говорит: «погибни!» — она есть приговор осуждённых...
6
Вникнем же наконец в то, какая наивность вообще говорить: «человек должен бы быть таким-то и таким-то!» Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь расточительной игры и смены форм; а какой-нибудь несчастный подёнщик-моралист говорит на это: «Нет! человек должен бы быть иным»?.. Он даже знает, каким он должен бы быть, этот лизоблюд и пустосвят, он малюет себя на стене и говорит при этом «ессе homo»!.. Но даже когда моралист обращается к отдельному человеку и говорит ему: «Ты должен бы быть таким-то и таким-то!» — он не перестаёт делать себя посмешищем. Индивид есть частица фатума во всех отношениях, лишний закон, лишняя необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему: «изменись» — значит требовать, чтобы всё изменилось, даже вспять... И действительно, были последовательные моралисты, они хотели видеть человека иным, именно добродетельным, они хотели видеть в нём своё подобие, именно пустосвята: для этого они отрицали мир! Не малое безумие! Вовсе не скромный вид нескромности!.. Мораль, поскольку она осуждает, сама по себе, а не из видов, соображений, целей жизни, есть специфическое заблуждение, к которому не должно питать никакого сострадания, идиосинкразия дегенератов, причинившая невыразимое количество вреда!.. Мы, иные люди, мы, имморалисты, наоборот, раскрыли наше сердце всякому пониманию, постижению, одобрению. Мы отрицаем не легко, мы ищем нашей чести в том, чтобы быть утверждающими. Всё больше раскрываются наши глаза на ту экономию, которая нуждается и умеет пользоваться даже всем тем, что отвергает святое сумасбродство жреца, больного разума в жреце, на ту экономию в законе жизни, которая извлекает свою выгоду даже из отвратительной специи пустосвята, жреца, добродетельного, — какую выгоду? — Но сами мы, мы, имморалисты, являемся ответом на это...
ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИХ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
1
Заблуждение, заключающееся в смешивании причины и следствия. Нет более опасного заблуждения, чем смешивать следствие с причиной: я называю его подлинной испорченностью разума. Тем не менее это заблуждение принадлежит к числу древнейших и позднейших привычек человечества: оно даже освящено у нас, оно носит название «религии»-«морали». Каждое положение, формулируемое религией и моралью, содержит его в себе; жрецы и законодатели нравственности являются виновниками этой испорченности разума. — Приведу пример. Всякий знает книгу знаменитого Корнаро, в которой он рекомендует свою скудную диету как рецепт для долгой и счастливой — а также добродетельной — жизни. Не многие книги находили столько читателей, как эта; она ещё и теперь печатается в Англии ежегодно во многих тысячах экземпляров. Не сомневаюсь в том, что едва ли какая-нибудь книга (разумеется, исключая Библию) причинила столько бедствий, сократила столько жизней, как это столь благонамеренное curiosum. Основание этого: смешивание следствия с причиной. Честный итальянец видел в своей диете причину своей долгой жизни: тогда как предусловие долгой жизни — чрезвычайная медленность обмена веществ, малая трата была причиной его скудной диеты. Он не был волен есть мало или много, его умеренность была не «свободной волей»: он становился больным, когда ел больше. Но кто не карп, тому не только хорошо, но и нужно есть как следует. Учёный наших дней, при быстром расходовании своей нервной силы, погубил бы себя этим regime Корнаро. Crede experto. —
2
Самая общая формула, лежащая в основе всякой религии и морали, гласит: «делай то-то и то-то, не делай того-то и того-то — и ты будешь счастлив! В противном случае...» Каждая мораль, каждая религия есть этот императив — я называю его великим наследственным грехом разума, бессмертным неразумием. В моих устах эта формула превращается в обратную ей — первый пример моей «переоценки всех ценностей»: удачный человек, «счастливец», должен совершать известные поступки и инстинктивно боится иных поступков, он вносит порядок, который он физиологически являет собою, в свои отношения к людям и вещам. Формулируя это: его добродетель есть следствие его счастья... Долгая жизнь, многочисленное потомство не есть награда за добродетель, скорее сама добродетель есть то замедление обмена веществ, которое, между прочим, имеет следствием также долгую жизнь, многочисленное потомство, словом, корнаризм. — Церковь и мораль говорят: «род, народ гибнет от порока и роскоши». Мой восстановленный разум говорит: если народ гибнет, физиологически вырождается, то из этого вытекают порок и роскошь (т. е. потребность всё в более сильных и частых раздражениях, которая знакома всякой истощённой натуре). Этот молодой человек рано становится бледным и вялым. Его друзья говорят: этому причина такая-то и такая-то болезнь. Я говорю: что он стал больным, что он не мог сопротивляться болезни, было уже следствие оскудевшей жизни, наследственного истощения. Читатель газет говорит: эта партия губит себя такой ошибкой. Моя высшая политика говорит: партия, делающая такую ошибку, находится на краю гибели — она уже не обладает уверенностью своего инстинкта. Каждая ошибка во всяком смысле есть следствие вырождения инстинкта, дисгрегации воли: этим почти определяется дурное. Всё хорошее есть инстинкт — и, следовательно, легко, необходимо, свободно. Тягостный труд есть возражение, Бог имеет типичное отличие от героя (на моём языке: лёгкие ноги суть первый атрибут божественности).
3
Заблуждение ложной причинности. Во все времена полагали, что знают, что такое причина, — но откуда взяли мы это знание, точнее, нашу веру, что мы знаем это? Из области знаменитых «внутренних фактов», из которых ни один до сих пор не выказал своей фактичности. Мы воображали самих себя причинными в акте воли; мы полагали по меньшей мере, что поймали тут причинность с поличным. Равным образом не сомневались в том, что все antecedentia поступка, его причины, надо искать в сознании и что они найдутся там, если их поискать — в качестве «мотивов»: иначе ведь мы не были бы свободны совершить поступок, не были бы ответственны за него. Наконец, кто станет оспаривать, что мысль причиняется? что Я производит мысль?.. Из этих трех «внутренних фактов», которые, по-видимому, служили ручательством за причинность, первым и самым убедительным является факт воли как причины; концепция сознания («духа») как причины, а еще позже концепция Я («субъекта») как причины родились лишь впоследствии, после того как относительно воли причинность была установлена как данная, как эмпирия... Между тем мы лучше обдумали этот вопрос. Мы не верим нынче ни одному слову из всего этого. «Внутренний мир» полон призраков и блуждающих огней: воля есть один из них. Воля уже более ничем не движет, следовательно, также ничего более не объясняет — она только сопровождает события, она может также и отсутствовать. Так называемый «мотив» — другое заблуждение. Просто поверхностный феномен сознания, спутник деяния, который скорее прикрывает antecedentia деяния, нежели выставляет их. И даже Я! Оно стало басней, фикцией, игрой слов: оно совершенно перестало мыслить, чувствовать и хотеть!.. Что отсюда следует? Нет никаких духовных причин! Вся мнимая эмпирия в пользу этого пошла к черту! Вот что отсюда следует! — И мы мило злоупотребляли этой «эмпирией», мы создали на основании ее мир как мир причин, как мир воли, как мир духов. Над этим работала самая древняя и самая продолжительная психология, она не делала ничего другого: всякое совершение стало для нее действием, всякое действие следствием воли, мир стал для нее множеством действующих лиц, действующее лицо («субъект») подсовывало себя под каждое совершение. Человек выпроецировал из себя свои три «внутренних факта», то, во что он тверже всего верил, — волю, дух, Я; он выудил понятие «бытие» впервые из понятия Я, он понял «вещи», как нечто сущее, по своему подобию, по своему понятию Я как причины. Что же удивительного, если он позже всегда лишь находил в вещах то, что вложил в них? — Сама вещь, повторяю, понятие «вещь», просто рефлекс веры в Я как причину... И даже еще ваш атом, господа механики и физики, сколько заблуждения, сколько рудиментарной психологии осталось еще в вашем атоме! — Не говоря уже о «вещи в себе», horrendum pudendum метафизиков! Заблуждение о духе как причине смешать с реальностью! И сделать мерилом реальности! И назвать Богом! —
4
Заблуждение воображаемой причинности. Начнём со сновидения: под какое-нибудь определённое ощущение, например от отдалённого пушечного выстрела, задним числом подсовывается причина (часто целый маленький роман, в котором именно грезящий является главным лицом). Между тем ощущение продолжается, как бы в виде резонанса: оно как бы ждёт, пока инстинкт причины позволит ему выступить на передний план — теперь уже не в качестве случая, а в качестве «смысла». Пушечный выстрел выступает на сцену каузальным путём, в кажущемся обратном течении времени. Более позднее, мотивация, переживается раньше, часто с сотней подробностей, протекающих с быстротою молнии, выстрел следует... Что же случилось? Представления, порождённые известным состоянием, были ложно поняты как его причина. — Фактически мы делаем во время бдения то же самое. Большая часть наших общих чувств — всякого вида затруднение, гнёт, напряжение, взрыв в перекрёстной игре органов, в особенности же состояние nervus sympathicus — возбуждают наш инстинкт причины: мы хотим иметь основание того, что чувствуем себя так-то и так-то — чувствуем себя дурно или хороню. Нам никогда не бывает достаточно просто лишь установить факт, что мы чувствуем себя так-то и так-то: мы допускаем этот факт — сознаём его — лишь тогда, когда дали ему нечто вроде мотивировки. — Воспоминание, начинающее действовать в таких случаях без нашего ведома, приводит прежние состояния подобного рода и сросшиеся с ними каузальные толкования — не их причинность. Конечно, вера в то, что представления, что сопровождающие явления сознания были причинами, также всплывает благодаря воспоминанию. Так возникает привычка к известному причино-толкованию, которая в действительности затрудняет исследование причины и даже исключает его.
5
Психологическое объяснение этого. Сведение чего-нибудь незнакомого к чему-нибудь знакомому облегчает, успокаивает, умиротворяет, кроме того, даёт чувство власти. Незнакомое приносит с собою опасность, беспокойство, заботу — первый инстинкт направляется к тому, чтобы устранить тягостное состояние. Первый принцип: какое-нибудь объяснение лучше, чем никакое. Так как дело идет, в сущности, лишь о желании освободиться от угнетающих представлений, то в средствах освободиться от них не бывают очень-то разборчивы: первое представление, которым незнакомое объясняется как знакомое, действует так благотворно, что его «считают истинным». Доказательство от удовольствия («силы») как критерий истины. — Итак, инстинкт причины обусловливается и возбуждается чувством страха. «Почему?» должно, если только возможно, не столько давать причину ради нее самой, сколько скорее нечто вроде причины — успокаивающую, освобождающую, облегчающую причину. Что нечто уже знакомое, пережитое, записанное в воспоминании прилагается в качестве причины, это первое следствие такой потребности. Новое, неизведанное, чуждое исключается как причина. — Таким образом в качестве причины ищется не только какой-нибудь вид объяснений, а избранный и привилегированный вид объяснений, таких, при которых быстрее всего, чаще всего устраняется чувство чуждого, нового, неизведанного, — обычнейших объяснений. — Следствие: один вид установления причин перевешивает все более, концентрируется в систему и, наконец, выступает доминирующим, т. е. просто исключающим другие причины и объяснения. — Банкир сейчас же думает о «деле», христианин — о «грехе», девушка — о своей любви.

МИФОЛОГИЯ






| ГОМЕР | ИЛИАДА | ОДИССЕЯ | ЗОЛОТОЕ РУНО | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ |
| БЕЛАЯ БОГИНЯ | МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ЦАРЬ ИИСУС |
МИФОЛОГИЯ \ФИЛОСОФИЯ\ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА\ ПСИХОЛОГИЯ

| РОБЕРТ ГРЕЙВС. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА |

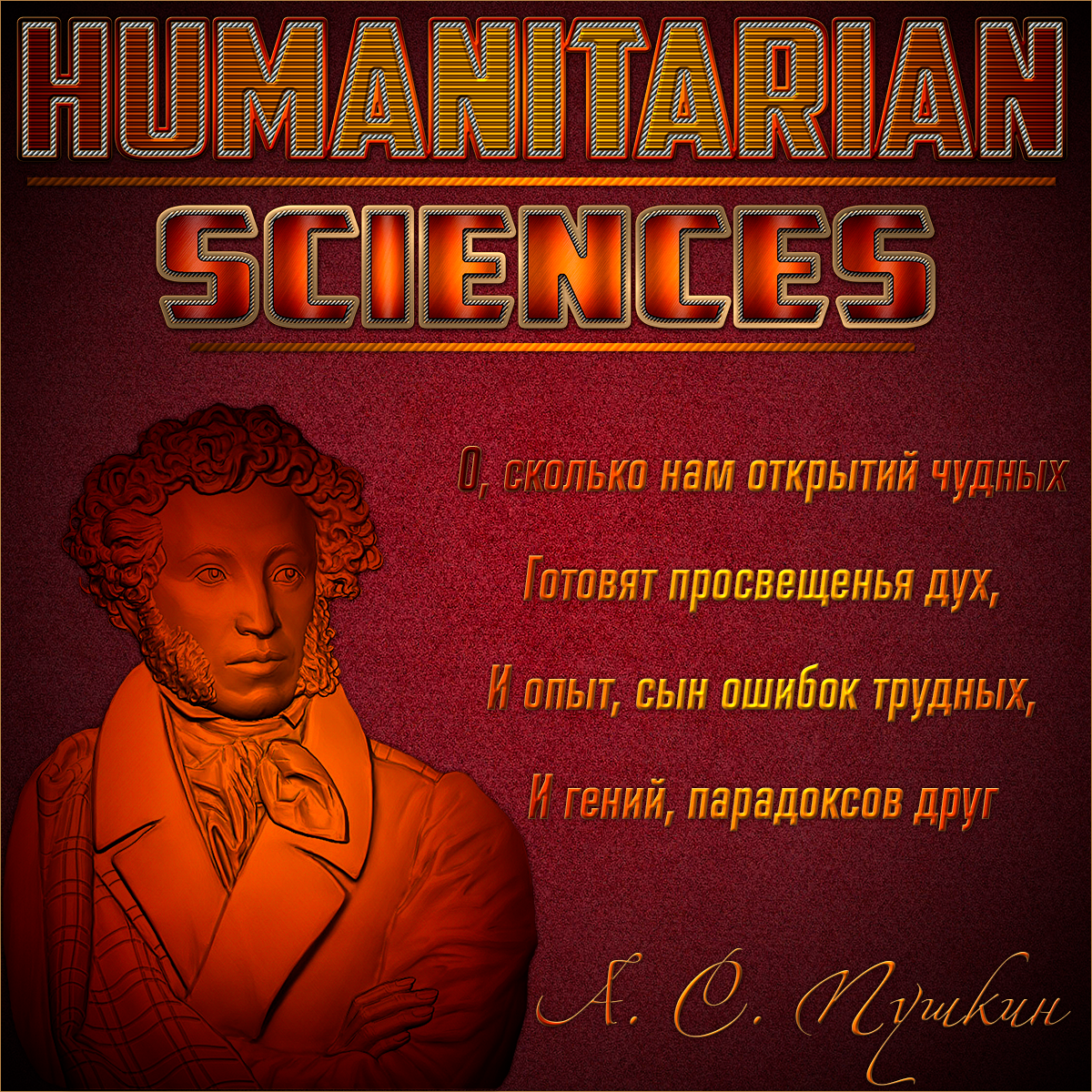











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ




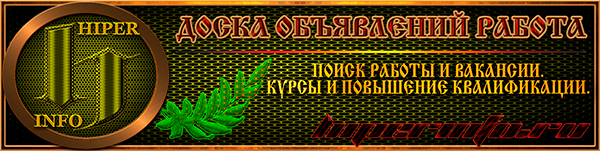

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.