- 994 Просмотра
- Обсудить

НИЦШЕ \ НИЦШЕ (10)\НИЦШЕ (9)\НИЦШЕ (8)\НИЦШЕ (7)\НИЦШЕ (6)
НИЦШЕ (5)\НИЦШЕ (4)\НИЦШЕ (3)\НИЦШЕ (2)\НИЦШЕ
Воля к власти (0) Воля к власти (2) Воля к власти (3) Воля к власти (4) Воля к власти (5)
Воля к власти (6) Воля к власти (7) Воля к власти (8) Воля к власти (9) Воля к власти (10)
ФИЛОСОФИЯ \ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА \ ПСИХОЛОГИЯ
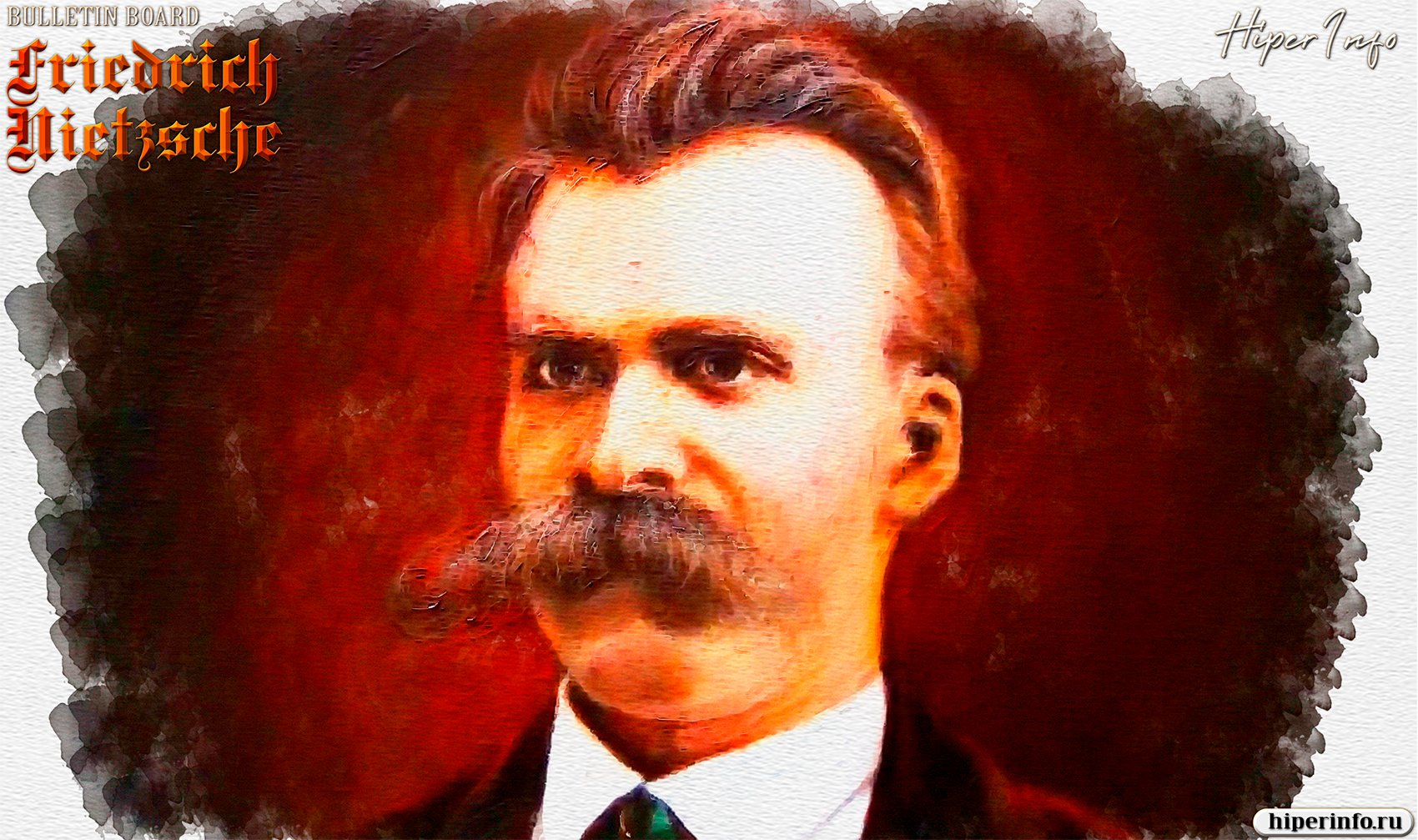
ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ГРУППА / ГРУППОВОЕ / КОЛЛЕКТИВ / КОЛЛЕКТИВНОЕ / СОЦИАЛЬНЫЙ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХИКА / ПСИХИЧЕСКИЙ / ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ / ПСИХОАНАЛИЗ
ФИЛОСОФИЯ / ЭТИКА / ЭСТЕТИКА / ФИЛОСОФ / ПСИХОЛОГ / ПОЭТ / ПИСАТЕЛЬ
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE / ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

НИЦШЕ / NIETZSCHE / ЕССЕ HOMO / ВОЛЯ К ВЛАСТИ / К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ / СУМЕРКИ ИДОЛОВ /
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА / ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА / ЗЛАЯ МУДРОСТЬ / УТРЕННЯЯ ЗАРЯ /
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ / СТИХИ НИЦШЕ / РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ




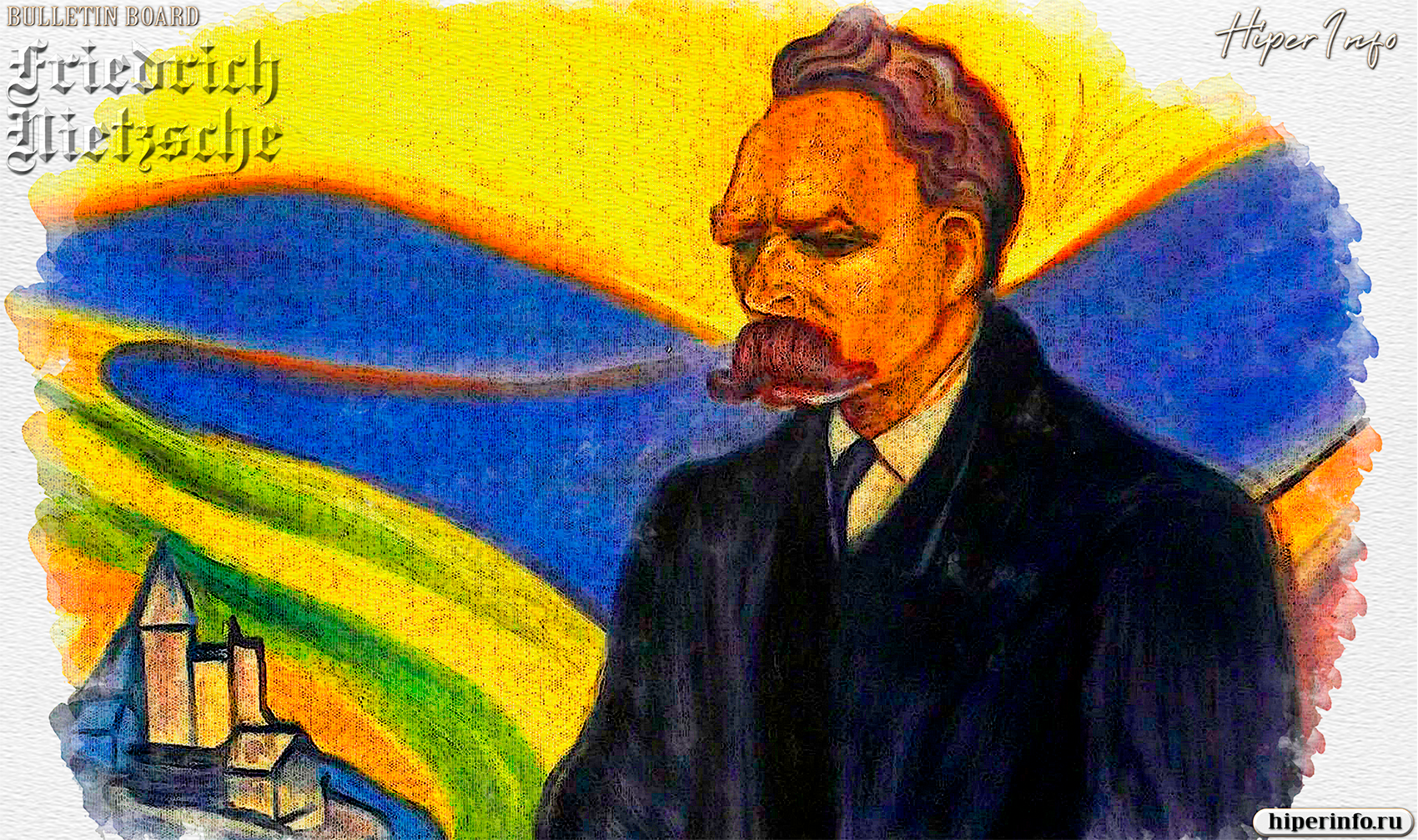




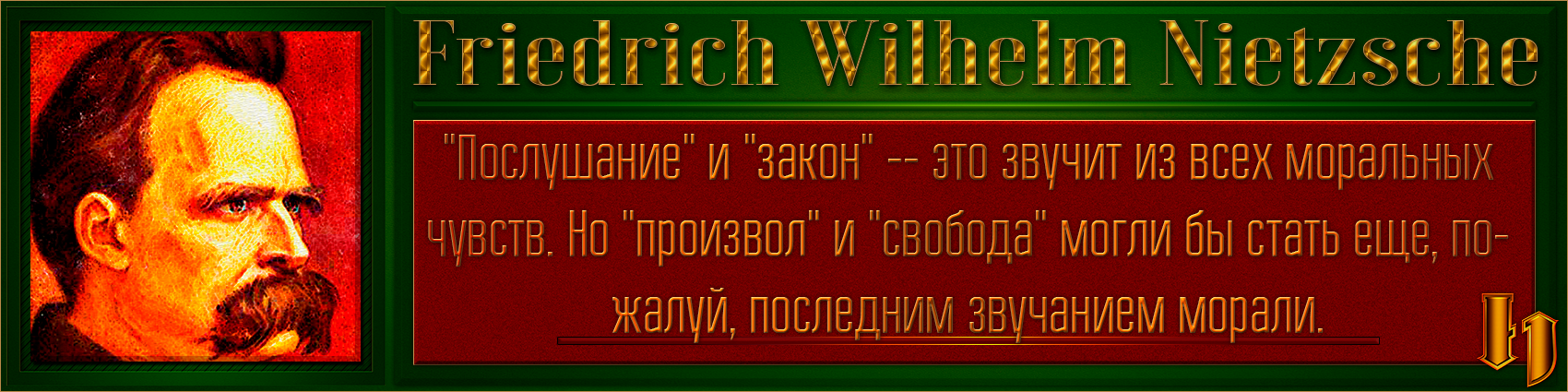


 Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше
ФРИДРИХ НИЦШЕ
FRIEDRICH NIETZSCHE ВЕСЁЛАЯ НАУКА
("LA GAYA SCIENZA")

375
Почему мы кажемся эпикурейцами.
Мы осторожны, мы, современные люди, по части окончательных убеждений; наше недоверие затаилось в засаде против очарований и коварных уловок совести, свойственных всякой сильной вере, всякому безусловному Да и Нет; как это объяснить? Можно, по-видимому, с одной стороны, усматривать здесь осторожность “обжегшегося ребенка”, разочарованного идеалиста, но с другой и лучшей стороны, также и ликующее любопытство бывалого зеваки, который, зевая, дошел до отчаяния и теперь в пику своему зеванью роскошествует и пирует в безграничном, под “открытым небом вообще”. Тем самым вырабатывается почти эпикурейская склонность к познанию, которая не так-то просто упускает из виду проблематичный характер вещей; равным образом и отвращение к громким моральным словам и жестам, вкус, отклоняющий все топорные неуклюжие противоречия и гордо сознающий свою опытность по части оговорок. Ибо это и составляет нашу гордость: слегка натянутые вожжи при нашем рвущемся вперед стремлении к достоверности, сдержанность всадника в его бешеной скачке: мы и впредь, как и раньше, будем скакать на безумных огненных зверях, и если мы замешкаемся, то мешкать вынудит нас, пожалуй, меньше всего опасность…
376
Наши замедленные такты.
Так ощущают все художники и люди “творений”. Человек материнского типа: им всегда кажется, на каждом отрезке их жизни – который всякий раз отрезывается новым творением, - что теперь они у самой цели; смерть всегда принималась бы ими терпеливо и с чувством: “мы созрели для этого”. Это не есть выражение усталости, - скорее, осенней солнечности и кротости, которые всякий раз оставляют за собою в творце само творение, зрелость его творения. Тогда замедляется темп жизни и становится густым и медоточивым – вплоть до длинных фермат, вплоть до веры в длинную фермату…
377
Мы, безродные.
Среди нынешних европейцев нет недостатка в таких, которые вправе называть себя безродными в окрыляющем и славном смысле этого слова, - к ним пусть и будет недвусмысленно обращена моя тайная мудрость и gaya scienza. Ибо участь их сурова, надежда неверна; было бы непростым фокусом придумать для них утешение – да и чем бы это помогло! Мы, дети будущего, как смогли бы мы быть дома в этом настоящем! Мы неблагосклонны ко всем идеалам, в которых кто-либо мог бы еще чувствовать себя уютно даже в это ломкое, поломанное переходное время; что же до их “реальностей”, мы не верим в их долговечность. Лед, по которому сегодня можно еще ходить, стал уже очень тонок: дует весенний ветер, мы сами, мы, безродные, являем собою нечто проламывающее лед и прочие слишком тонкие “реальности”… Мы ничего не “консервируем”, мы не стремимся также обратно в прошлое, мы нисколько не “либеральны”, мы не работаем на “прогресс”, нам вовсе не нужно затыкать ушей от базарных сирен будущего, то, о чем они поют: “равные права”, “свободное общество”, “нет больше господ и нет рабов”, не манит нас! - мы просто царство справедливости и единодушия (ибо оно при всех обстоятельствах стало бы царством глубочайшей посредственности и китайщины), мы радуемся всем, кто, подобно нам, любит опасность, войну, приключения, кто не дает себя уговорить, уловить, умиротворить, оскопить, мы причисляем самих себя к завоевателям, мы размышляем о необходимости новых порядков, также и нового рабства, - ибо ко всякому усилению и возвышению типа “человек” принадлежит и новый вид порабощения – не правда ли? При всем этом мы должны чувствовать себя как на иголках в век, который горазд бахвалиться тем, что он самый человечный, самый кроткий, самый правовой из всех бывших до сих пор под солнцем? Достаточно скверно, что как раз при этих прекрасных словах возникают у нас тем более безобразные задние мысли! Что мы видим в них лишь выражение – и маскарад – глубокого расслабления, утомления, старости, скудеющей силы! Какое нам дело до мишуры, с помощью которой больной приукрашивает свою слабость! Пусть он выставляет ее напоказ, как свою добродетель, - не подлежит никакому сомнению, что слабость делает кротким, ах, таким кротким, таким правовым, таким безобидным, таким “человечным”! – “Религия сострадания”, в которую нас хотели бы обратить, - о, нам достаточно известны истеричные самцы и самки, которым нынче нужна как раз эта религия для покрывала и наряда! Мы не гуманисты; мы никогда не рискнули бы позволить себе разглагольствовать о нашей “любви к человечеству” – для этого мы недостаточно актеры! Или недостаточно сен-симонисты, недостаточно французы! Нужно глубоко погрязнуть в галльском излишестве эротической раздражительности и влюбчивой нетерпеливости, чтобы, все еще продолжая играть в порядочность, лезть на человечество со своей похотью… Человечество! Была ли еще более гнусная карга среди всех старух (разве что “истина”: вопрос для философов)? Нет, мы не любим человечества; но, с другой стороны, мы далеко и не “немцы”, в расхожем нынче смысле слова “немецкий”, чтобы лить водну на мельницу национализма и расовой ненависти, чтобы наслаждаться национальной чесоткой сердца и отравлением крови, из-за которых народы в Европе нынче отделены и отгорожены друг от друга, как карантинами. Мы слишком независимы для этого, слишком злы, слишком избалованы, слишком к тому же хорошо обучены, слишком “выхожены”; мы во всяком случае предпочитаем этому жить в горах, в стороне, “несвоевременно”, в прошлых или грядущих столетиях, лишь бы уберечь себя от тихого бешенства, к которому мы были бы приговорены, будучи свидетелями политики, опустошающей немецкий дух тщеславием, и к тому же мелочной политики, - разве не вынуждена она, во избежание распада собственного ее творения, посадить его между двух смертельных ненавистей? разве не должна она желать увековечения партикуляризма в Европе?.. Мы, безродные, мы, как “новейшие люди”, слишком многогранны и разнородны по своей расе и происхождению и, следовательно, мало искушены в том, чтобы принимать участие в изолгавшемся самопреклонении и блуде, которые нынче выпячиваются в Германии в качестве вывески немецкого образа мыслей и которые выглядят двукратно лживыми и непристойными у народа, обладающего “историческим чувством”. Мы, одним словом, - и пусть это будет нашим честным словом! – добрые европейцы, наследники Европы, богатые, перегруженные, но и обремененные чрезмерным долгом наследники тысячелетий европейского духа: как таковые, мы вышли из-под опеки и христианства и чужды ему, именно потому, что мы выросли из него и что наши предки были самыми беспощадно честными христианами христианства, жертвовавшими во имя веры имуществом и кровью, сословием и отечеством. Мы – делаем то же. Но во имя чего? Во имя нашего неверия? Во имя всякого неверия? Нет, вам это лучше известно, друзья мои! Скрытое да в вас сильнее, чем любые нет и может быть, которыми вы больны вместе с вашим веком; и когда вам придется пуститься по морям, вы, невозвращенцы, то и вас вынудит к этому – вера!..
378
“И станем снова светлыми”.
Мы, щедрые подаятели и богачи духа, стоящие, подобно открытым колодцам, на улице и не властные никому воспрепятствовать черпать из нас: мы не умеем, увы, защищать самих себя там, где мы хотели бы этого, мы никак не можем помешать тому, чтобы нас не мутили, не темнили, - чтобы время, в которое мы живем, не бросало в нас своей “злободневности”, грязные птицы – своих испражнений, мальчишки – своего хлама, а изнемогшие, отдыхающие возле нас странники – своих маленьких и больших невзгод. Но мы поступим так, как мы всегда поступали: мы примем и то, что в нас бросают, в нашу глубину – ибо мы глубоки, мы не забываем этого, - и станем снова светлыми…
379
Реплика дурака.
Эту книгу написал отнюдь не мизантроп: ненависть к человеку оплачивается нынче слишком дорого. Чтобы ненавидеть так, как прежде ненавидели человека, по-тимоновски, целиком, без всяких скидок, от всего сердца, изо всей любви ненависти, - для этого следовало бы отказаться от презрения: а какой утонченной радостью, каким терпением, каким даже добродушием обязаны мы именно своему презрению! К тому же с ним мы – “избранники Божьи”: тонкое презрение есть наш вкус и преимущество, наше искусство, возможно, наша добродетель, мы – самые современные среди современных!.. Ненависть, напротив, сравнивает, сопоставляет, в ненависти есть уважение, наконец; в ненависти есть страх, большая, значительная доля страха. Мы же, бесстрашные, мы, более одухотворенные люди этой эпохи, мы в достаточной степени знаем свое превосходство, чтобы как раз в качестве более одухотворенных не испытывать никакого страха к этому времени. Нас едва ли обезглавят, заточат в темницу, сошлют; даже наших книг не запретят и не сожгут. Этот век любит ум, он любит нас и нуждается в нас, даже если нам пришлось бы дать ему понять, что мы художники по части всякого презрения; что при каждом общении с людьми нас слегка знобит; что при всей нашей кротости, терпеливости, человечности, учтивости мы не в силах уговорить собственный нос отказаться от своего предубеждения к близко стоящему человеку; что мы тем больше любим природу, чем меньше в ней человеческого, и искусство, если оно есть бегство художника от человека, или насмешка художника над человеком, или насмешка художника над самим собой…
380
“Странник” говорит.
Чтобы рассмотреть однажды нашу европейскую мораль издали, чтобы сопоставить ее с другими, прежними или будущими, моралями, надо сделать то, что делает странник, желающий узнать, насколько высоки городские башни: для этого он покидает город. “Мысли о моральных предрассудках”, дабы не быть предрассудками о предрассудках, предполагают некую установку вне самой морали, некое по ту сторону добра и зла, куда должно взбираться, карабкаться, лететь, - а в данном случае наверняка уж некое по ту сторону нашего добра и зла, некую свободу от всякой “Европы”, понимая под последней сумму командных ценностных суждений, которые перешли в нашу плоть и кровь. То, что хочешь именно туда наружу и наверх, есть, быть может, маленькое сумасбродство, странное, безрассудное “ты должен”, - ибо и нам, познающим, свойственны свои идиосинкразии “несвободной воли”; вопрос в том, действительно ли можешь туда наверх. Это зависит от многих условий; главным образом вопрос сводится к тому, насколько мы легки или тяжелы, к проблеме нашей “специфической тяжести” Нужно быть очень легким, чтобы увлечь свою волю к познанию в такую даль и как бы над своим временем, чтобы сотворить себе глаза для обзора тысячелетий и вдобавок еще и чистое небо в этих глазах! Нужно избавиться от многого, что гнетет, парализует, подавляет, тяжелит нас, нынешних европейцев. Человек такой потусторонности, желающий сам обнаружить высшие ценностные нормы своего времени, должен прежде всего “преодолеть” это время в себе самом – такова проба его силы, - и, следовательно, не только свое время, но и свое прежнее отвращение к этому времени и разлад с ним, свое страдание от этого времени, свою несвоевременность, свою романтику…
381
К вопросу о понятности.
Очевидно, когда пишут, хотят быть не только понятными, но и равным образом не понятными. Вовсе не является еще возражением против книги, если кто-то находит ее непонятной: возможно, именно это и входило в намерения ее автора – он не хотел, чтобы его понял “кто-то”. Всякий более аристократичный ум и вкус, желая высказаться, выбирает себе и своих слушателей; выбирая их, он в то же время ограждается от “других”. Здесь берут свое начало все более утонченные законы стиля: они одновременно держат на расстоянии, они сотворяют дистанцию, они воспрещают “вход”, понимание, как было уже сказано, - и попутно открывают уши тем, кто сродни нам ушами. И – говоря между нами, и в моем случае – я не хочу ни своим незнанием, ни живостью своего темперамента мешать вам понимать меня, друзья мои: именно живостью, как бы она ни вынуждала меня быть проворным в решении какого-либо дела, которое только так и может быть вообще решено. Ибо с глубокими проблемами у меня обстоит так же, как с холодной ванной, - мигом туда, мигом оттуда. Это все еще суеверие людей, страдающих водобоязнью, врагов холодной воды, будто тем самым не добираешься до глубины, не погружаешься достаточно глубоко; они говорят, не имея опыта. О! ледяная вода заставит быть проворным! – И спрашивая между прочим: оттого ли только остается вещь действительно непонятной и неузнанной, что ее касаются, разглядывают, подмечают лишь на лету? Нужно ли сначала непременно усесться на нее? сидеть на ней, как на яйцах? Diu noctuque incubando, как сказал о себе самом Ньютон? По крайней мере, есть истины особенно пугливые и чувствительные к щекотке, которыми и нельзя овладеть иначе, как внезапно, - которых надо застать врасплох либо отпустить… Наконец, моя краткость обладает еще и другим достоинством: в таких вопросах, как занимающие меня, я должен многое сказать быстро, чтобы это еще быстрее дошло до ушей. Следует, будучи имморалистом, заботиться о том, чтобы не развращали невинность, я разумею ослов и старых дев обоего пола, которые ничего не имеют от жизни, кроме своей невинности; больше того, мои сочинения должны воодушевлять их, ободрять, поощрять к добродетели. Я не знаю на земле ничего более забавного, чем зрелище воодушевленных старых ослов и дев, которые возбуждаются сладкими чувствами добродетели: и “это я видел” – так говорил Заратустра. Вот, пожалуй, и все относительно краткости; хуже обстоит с моим незнанием, из которого я не делаю тайны даже для самого себя. Есть часы, когда я его стыжусь; разумеется, и часы, когда я стыжусь этого стыда. Быть может, мы, философы, все без исключения относимся нынче к знанию скверно: наука растет, наиболее ученые из нас близки к открытию, что они слишком мало знают. Но было бы гораздо хуже, если бы дело обстояло иначе – если бы мы знали слишком много; нашей самопервейшей задачей было и остается: самим не путать себя. Мы являемся чем-то иным, чем ученые; хотя и нельзя обойтись без того, чтобы мы, между прочим, были и учеными. У нас иные потребности, иной рост, иное пищеварение: нам потребно большее, нам потребно и меньшее. Сколько нужно духу для его питания – нет формулы, смогшей бы это определить; если же его вкус обращен к независимости, к быстрой ходьбе, к странствованию, к приключениям, быть может, до которых доросли лишь самые проворные, то он охотнее живет на скудной диете, но привольно, нежели связанным и откормленным. Не жира, но величайшей гибкости и силы хочет танцор от своего питания, - и я не знаю, чем еще желал бы быть ум философа, как не хорошим танцором. Именно танец и есть его идеал, его искусство, в конце концов и его единственное благочестие, его “богослужение”…
382
Великое здоровье.
Мы, новые, безымянные, труднодоступные, мы, недоноски еще не проявленного будущего, - нам для новой цели потребно и новое средство, именно, новое здоровье, более крепкое, более умудренное, более цепкое, более отважное, более веселое, чем все бывшие до сих пор здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объеме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального “средиземноморья” кто ищет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, равным образом у художника, у святого, у законодателя, у мудреца, у ученого, у благочестивого, у предсказателя, у пустынножителя старого стиля, - тот прежде всего нуждается для этого в великом здоровье – в таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться!.. И вот Же, после того как мы так долго были в пути, мы, аргонавты идеала, более храбрые, должно быть, чем этого требует благоразумие, подвергшиеся стольким кораблекрушениям и напастям, но, как сказано, более здоровые, чем хотели бы нам позволить, опасно здоровые, все вновь и вновь здоровые, - нам начинает казаться, будто мы, в вознаграждение за это, видим какую-то еще не открытую страну, границ которой ни кто еще не обозрел, некое по ту сторону всех прежних земель и уголков идеала, мир до того богатый прекрасным, чуждым, сомнительным, страшным и божественным, что наше любопытство, как и наша жажда обладания, выходит из себя – ах! и мы уже ничем не можем насытиться! Как смогли бы мы, после таких перспектив и с таким ненасытным голодом на совесть и весть, довольствоваться еще современным человеком? Довольно скверно; но и невозможно, чтобы мы только с деланной серьезностью взирали и, пожалуй, даже вовсе не взирали на его почтеннейшие цели и надежды. Нам преподносится другой идеал, причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому мы никого не хотели бы склонить; ибо ни за кем не признаем столь легкого права на него: идеал духа, который наивно, стал быть, сам того не желая и из бьющего через край избытка полноты и мощи играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого то наивысшее, в чем народ по справедливости обладает своим ценностным мерилом, означало бы уже опасность, упадок, унижение или, по меньшей мере, отдых, слепоту, временное самозабвение; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который довольно часто выглядит нечеловеческим, скажем, когда он рядом со всей бывшей на земле серьезностью, рядом со всякого рода торжественностью в жесте, слове, звучании, взгляде, морали и задаче изображает как бы их живейшую непроизвольную пародию, - и со всем тем, несмотря на все то, быть может, только теперь и появляется впервые великая серьезность, впервые ставится вопросительный знак, поворачивается судьба души, сдвигается стрелка, начинается трагедия…
383
Эпилог.
Но между тем как я в заключение без всякой спешки вырисовываю этот мрачный вопросительный знак и все еще намереваюсь напомнить моим читателям добродетели правильного чтения – о, какие это забытые и неведомые добродетели! – вокруг меня громко раздается самый что ни на есть злой, сочный, кобольдовый смех: сами духи моей книги обрушиваются на меня, тянут меня за уши и призывают меня к порядку. “Нам уже невтерпеж, - кричат они мне, - прочь, прочь с этой воронье-черной музыкой. Разве вокруг нас не светлое утро? И зеленая мягкая почва и лужайка, королевство танца? Был ли когда-либо более подходящий час для веселья? Кто споет нам песню, дополуденную песню, такую солнечную, такую легкую, такую летучую, что не спугнет и сверчков, - скорее, пригласит сверчков петь и танцевать вместе с нею? И лучше даже дурацкая мужицкая волынка, нежели эти таинственные звуки, эти кваканья жаб, могильные голоса и сурочьи высвисты, которыми вы до сих пор потчевали нас в вашем захолустье, господин отшельник и музыкант будущего! Нет! Не надо таких тонов! Настройте нас на более приятный и более радостный лад!” – Вам это так по вкусу, мои нетерпеливые друзья? Ну что ж! Кто бы не захотел вам угодить? Моя волынка к вашим услугам, моя глотка также – она может издавать несколько хриплые звуки, не взыщите! на то мы и в горах. Но То. что вам придется услышать, по меньшей мере, ново; и если вы этого не поймете, если вы недопоймете певца, что же тут такого! Таково уж “певца проклятье”. Тем отчетливее смогли бы вы внимать его музыке и мотиву, тем лучше плясалось бы вам под его посвистыванье. Хотите ли вы этого?..
Почему мы кажемся эпикурейцами.
Мы осторожны, мы, современные люди, по части окончательных убеждений; наше недоверие затаилось в засаде против очарований и коварных уловок совести, свойственных всякой сильной вере, всякому безусловному Да и Нет; как это объяснить? Можно, по-видимому, с одной стороны, усматривать здесь осторожность “обжегшегося ребенка”, разочарованного идеалиста, но с другой и лучшей стороны, также и ликующее любопытство бывалого зеваки, который, зевая, дошел до отчаяния и теперь в пику своему зеванью роскошествует и пирует в безграничном, под “открытым небом вообще”. Тем самым вырабатывается почти эпикурейская склонность к познанию, которая не так-то просто упускает из виду проблематичный характер вещей; равным образом и отвращение к громким моральным словам и жестам, вкус, отклоняющий все топорные неуклюжие противоречия и гордо сознающий свою опытность по части оговорок. Ибо это и составляет нашу гордость: слегка натянутые вожжи при нашем рвущемся вперед стремлении к достоверности, сдержанность всадника в его бешеной скачке: мы и впредь, как и раньше, будем скакать на безумных огненных зверях, и если мы замешкаемся, то мешкать вынудит нас, пожалуй, меньше всего опасность…
376
Наши замедленные такты.
Так ощущают все художники и люди “творений”. Человек материнского типа: им всегда кажется, на каждом отрезке их жизни – который всякий раз отрезывается новым творением, - что теперь они у самой цели; смерть всегда принималась бы ими терпеливо и с чувством: “мы созрели для этого”. Это не есть выражение усталости, - скорее, осенней солнечности и кротости, которые всякий раз оставляют за собою в творце само творение, зрелость его творения. Тогда замедляется темп жизни и становится густым и медоточивым – вплоть до длинных фермат, вплоть до веры в длинную фермату…
377
Мы, безродные.
Среди нынешних европейцев нет недостатка в таких, которые вправе называть себя безродными в окрыляющем и славном смысле этого слова, - к ним пусть и будет недвусмысленно обращена моя тайная мудрость и gaya scienza. Ибо участь их сурова, надежда неверна; было бы непростым фокусом придумать для них утешение – да и чем бы это помогло! Мы, дети будущего, как смогли бы мы быть дома в этом настоящем! Мы неблагосклонны ко всем идеалам, в которых кто-либо мог бы еще чувствовать себя уютно даже в это ломкое, поломанное переходное время; что же до их “реальностей”, мы не верим в их долговечность. Лед, по которому сегодня можно еще ходить, стал уже очень тонок: дует весенний ветер, мы сами, мы, безродные, являем собою нечто проламывающее лед и прочие слишком тонкие “реальности”… Мы ничего не “консервируем”, мы не стремимся также обратно в прошлое, мы нисколько не “либеральны”, мы не работаем на “прогресс”, нам вовсе не нужно затыкать ушей от базарных сирен будущего, то, о чем они поют: “равные права”, “свободное общество”, “нет больше господ и нет рабов”, не манит нас! - мы просто царство справедливости и единодушия (ибо оно при всех обстоятельствах стало бы царством глубочайшей посредственности и китайщины), мы радуемся всем, кто, подобно нам, любит опасность, войну, приключения, кто не дает себя уговорить, уловить, умиротворить, оскопить, мы причисляем самих себя к завоевателям, мы размышляем о необходимости новых порядков, также и нового рабства, - ибо ко всякому усилению и возвышению типа “человек” принадлежит и новый вид порабощения – не правда ли? При всем этом мы должны чувствовать себя как на иголках в век, который горазд бахвалиться тем, что он самый человечный, самый кроткий, самый правовой из всех бывших до сих пор под солнцем? Достаточно скверно, что как раз при этих прекрасных словах возникают у нас тем более безобразные задние мысли! Что мы видим в них лишь выражение – и маскарад – глубокого расслабления, утомления, старости, скудеющей силы! Какое нам дело до мишуры, с помощью которой больной приукрашивает свою слабость! Пусть он выставляет ее напоказ, как свою добродетель, - не подлежит никакому сомнению, что слабость делает кротким, ах, таким кротким, таким правовым, таким безобидным, таким “человечным”! – “Религия сострадания”, в которую нас хотели бы обратить, - о, нам достаточно известны истеричные самцы и самки, которым нынче нужна как раз эта религия для покрывала и наряда! Мы не гуманисты; мы никогда не рискнули бы позволить себе разглагольствовать о нашей “любви к человечеству” – для этого мы недостаточно актеры! Или недостаточно сен-симонисты, недостаточно французы! Нужно глубоко погрязнуть в галльском излишестве эротической раздражительности и влюбчивой нетерпеливости, чтобы, все еще продолжая играть в порядочность, лезть на человечество со своей похотью… Человечество! Была ли еще более гнусная карга среди всех старух (разве что “истина”: вопрос для философов)? Нет, мы не любим человечества; но, с другой стороны, мы далеко и не “немцы”, в расхожем нынче смысле слова “немецкий”, чтобы лить водну на мельницу национализма и расовой ненависти, чтобы наслаждаться национальной чесоткой сердца и отравлением крови, из-за которых народы в Европе нынче отделены и отгорожены друг от друга, как карантинами. Мы слишком независимы для этого, слишком злы, слишком избалованы, слишком к тому же хорошо обучены, слишком “выхожены”; мы во всяком случае предпочитаем этому жить в горах, в стороне, “несвоевременно”, в прошлых или грядущих столетиях, лишь бы уберечь себя от тихого бешенства, к которому мы были бы приговорены, будучи свидетелями политики, опустошающей немецкий дух тщеславием, и к тому же мелочной политики, - разве не вынуждена она, во избежание распада собственного ее творения, посадить его между двух смертельных ненавистей? разве не должна она желать увековечения партикуляризма в Европе?.. Мы, безродные, мы, как “новейшие люди”, слишком многогранны и разнородны по своей расе и происхождению и, следовательно, мало искушены в том, чтобы принимать участие в изолгавшемся самопреклонении и блуде, которые нынче выпячиваются в Германии в качестве вывески немецкого образа мыслей и которые выглядят двукратно лживыми и непристойными у народа, обладающего “историческим чувством”. Мы, одним словом, - и пусть это будет нашим честным словом! – добрые европейцы, наследники Европы, богатые, перегруженные, но и обремененные чрезмерным долгом наследники тысячелетий европейского духа: как таковые, мы вышли из-под опеки и христианства и чужды ему, именно потому, что мы выросли из него и что наши предки были самыми беспощадно честными христианами христианства, жертвовавшими во имя веры имуществом и кровью, сословием и отечеством. Мы – делаем то же. Но во имя чего? Во имя нашего неверия? Во имя всякого неверия? Нет, вам это лучше известно, друзья мои! Скрытое да в вас сильнее, чем любые нет и может быть, которыми вы больны вместе с вашим веком; и когда вам придется пуститься по морям, вы, невозвращенцы, то и вас вынудит к этому – вера!..
378
“И станем снова светлыми”.
Мы, щедрые подаятели и богачи духа, стоящие, подобно открытым колодцам, на улице и не властные никому воспрепятствовать черпать из нас: мы не умеем, увы, защищать самих себя там, где мы хотели бы этого, мы никак не можем помешать тому, чтобы нас не мутили, не темнили, - чтобы время, в которое мы живем, не бросало в нас своей “злободневности”, грязные птицы – своих испражнений, мальчишки – своего хлама, а изнемогшие, отдыхающие возле нас странники – своих маленьких и больших невзгод. Но мы поступим так, как мы всегда поступали: мы примем и то, что в нас бросают, в нашу глубину – ибо мы глубоки, мы не забываем этого, - и станем снова светлыми…
379
Реплика дурака.
Эту книгу написал отнюдь не мизантроп: ненависть к человеку оплачивается нынче слишком дорого. Чтобы ненавидеть так, как прежде ненавидели человека, по-тимоновски, целиком, без всяких скидок, от всего сердца, изо всей любви ненависти, - для этого следовало бы отказаться от презрения: а какой утонченной радостью, каким терпением, каким даже добродушием обязаны мы именно своему презрению! К тому же с ним мы – “избранники Божьи”: тонкое презрение есть наш вкус и преимущество, наше искусство, возможно, наша добродетель, мы – самые современные среди современных!.. Ненависть, напротив, сравнивает, сопоставляет, в ненависти есть уважение, наконец; в ненависти есть страх, большая, значительная доля страха. Мы же, бесстрашные, мы, более одухотворенные люди этой эпохи, мы в достаточной степени знаем свое превосходство, чтобы как раз в качестве более одухотворенных не испытывать никакого страха к этому времени. Нас едва ли обезглавят, заточат в темницу, сошлют; даже наших книг не запретят и не сожгут. Этот век любит ум, он любит нас и нуждается в нас, даже если нам пришлось бы дать ему понять, что мы художники по части всякого презрения; что при каждом общении с людьми нас слегка знобит; что при всей нашей кротости, терпеливости, человечности, учтивости мы не в силах уговорить собственный нос отказаться от своего предубеждения к близко стоящему человеку; что мы тем больше любим природу, чем меньше в ней человеческого, и искусство, если оно есть бегство художника от человека, или насмешка художника над человеком, или насмешка художника над самим собой…
380
“Странник” говорит.
Чтобы рассмотреть однажды нашу европейскую мораль издали, чтобы сопоставить ее с другими, прежними или будущими, моралями, надо сделать то, что делает странник, желающий узнать, насколько высоки городские башни: для этого он покидает город. “Мысли о моральных предрассудках”, дабы не быть предрассудками о предрассудках, предполагают некую установку вне самой морали, некое по ту сторону добра и зла, куда должно взбираться, карабкаться, лететь, - а в данном случае наверняка уж некое по ту сторону нашего добра и зла, некую свободу от всякой “Европы”, понимая под последней сумму командных ценностных суждений, которые перешли в нашу плоть и кровь. То, что хочешь именно туда наружу и наверх, есть, быть может, маленькое сумасбродство, странное, безрассудное “ты должен”, - ибо и нам, познающим, свойственны свои идиосинкразии “несвободной воли”; вопрос в том, действительно ли можешь туда наверх. Это зависит от многих условий; главным образом вопрос сводится к тому, насколько мы легки или тяжелы, к проблеме нашей “специфической тяжести” Нужно быть очень легким, чтобы увлечь свою волю к познанию в такую даль и как бы над своим временем, чтобы сотворить себе глаза для обзора тысячелетий и вдобавок еще и чистое небо в этих глазах! Нужно избавиться от многого, что гнетет, парализует, подавляет, тяжелит нас, нынешних европейцев. Человек такой потусторонности, желающий сам обнаружить высшие ценностные нормы своего времени, должен прежде всего “преодолеть” это время в себе самом – такова проба его силы, - и, следовательно, не только свое время, но и свое прежнее отвращение к этому времени и разлад с ним, свое страдание от этого времени, свою несвоевременность, свою романтику…
381
К вопросу о понятности.
Очевидно, когда пишут, хотят быть не только понятными, но и равным образом не понятными. Вовсе не является еще возражением против книги, если кто-то находит ее непонятной: возможно, именно это и входило в намерения ее автора – он не хотел, чтобы его понял “кто-то”. Всякий более аристократичный ум и вкус, желая высказаться, выбирает себе и своих слушателей; выбирая их, он в то же время ограждается от “других”. Здесь берут свое начало все более утонченные законы стиля: они одновременно держат на расстоянии, они сотворяют дистанцию, они воспрещают “вход”, понимание, как было уже сказано, - и попутно открывают уши тем, кто сродни нам ушами. И – говоря между нами, и в моем случае – я не хочу ни своим незнанием, ни живостью своего темперамента мешать вам понимать меня, друзья мои: именно живостью, как бы она ни вынуждала меня быть проворным в решении какого-либо дела, которое только так и может быть вообще решено. Ибо с глубокими проблемами у меня обстоит так же, как с холодной ванной, - мигом туда, мигом оттуда. Это все еще суеверие людей, страдающих водобоязнью, врагов холодной воды, будто тем самым не добираешься до глубины, не погружаешься достаточно глубоко; они говорят, не имея опыта. О! ледяная вода заставит быть проворным! – И спрашивая между прочим: оттого ли только остается вещь действительно непонятной и неузнанной, что ее касаются, разглядывают, подмечают лишь на лету? Нужно ли сначала непременно усесться на нее? сидеть на ней, как на яйцах? Diu noctuque incubando, как сказал о себе самом Ньютон? По крайней мере, есть истины особенно пугливые и чувствительные к щекотке, которыми и нельзя овладеть иначе, как внезапно, - которых надо застать врасплох либо отпустить… Наконец, моя краткость обладает еще и другим достоинством: в таких вопросах, как занимающие меня, я должен многое сказать быстро, чтобы это еще быстрее дошло до ушей. Следует, будучи имморалистом, заботиться о том, чтобы не развращали невинность, я разумею ослов и старых дев обоего пола, которые ничего не имеют от жизни, кроме своей невинности; больше того, мои сочинения должны воодушевлять их, ободрять, поощрять к добродетели. Я не знаю на земле ничего более забавного, чем зрелище воодушевленных старых ослов и дев, которые возбуждаются сладкими чувствами добродетели: и “это я видел” – так говорил Заратустра. Вот, пожалуй, и все относительно краткости; хуже обстоит с моим незнанием, из которого я не делаю тайны даже для самого себя. Есть часы, когда я его стыжусь; разумеется, и часы, когда я стыжусь этого стыда. Быть может, мы, философы, все без исключения относимся нынче к знанию скверно: наука растет, наиболее ученые из нас близки к открытию, что они слишком мало знают. Но было бы гораздо хуже, если бы дело обстояло иначе – если бы мы знали слишком много; нашей самопервейшей задачей было и остается: самим не путать себя. Мы являемся чем-то иным, чем ученые; хотя и нельзя обойтись без того, чтобы мы, между прочим, были и учеными. У нас иные потребности, иной рост, иное пищеварение: нам потребно большее, нам потребно и меньшее. Сколько нужно духу для его питания – нет формулы, смогшей бы это определить; если же его вкус обращен к независимости, к быстрой ходьбе, к странствованию, к приключениям, быть может, до которых доросли лишь самые проворные, то он охотнее живет на скудной диете, но привольно, нежели связанным и откормленным. Не жира, но величайшей гибкости и силы хочет танцор от своего питания, - и я не знаю, чем еще желал бы быть ум философа, как не хорошим танцором. Именно танец и есть его идеал, его искусство, в конце концов и его единственное благочестие, его “богослужение”…
382
Великое здоровье.
Мы, новые, безымянные, труднодоступные, мы, недоноски еще не проявленного будущего, - нам для новой цели потребно и новое средство, именно, новое здоровье, более крепкое, более умудренное, более цепкое, более отважное, более веселое, чем все бывшие до сих пор здоровья. Тот, чья душа жаждет пережить во всем объеме прежние ценности и устремления и обогнуть все берега этого идеального “средиземноморья” кто ищет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, равным образом у художника, у святого, у законодателя, у мудреца, у ученого, у благочестивого, у предсказателя, у пустынножителя старого стиля, - тот прежде всего нуждается для этого в великом здоровье – в таком, которое не только имеют, но и постоянно приобретают и должны приобретать, ибо им вечно поступаются, должны поступаться!.. И вот Же, после того как мы так долго были в пути, мы, аргонавты идеала, более храбрые, должно быть, чем этого требует благоразумие, подвергшиеся стольким кораблекрушениям и напастям, но, как сказано, более здоровые, чем хотели бы нам позволить, опасно здоровые, все вновь и вновь здоровые, - нам начинает казаться, будто мы, в вознаграждение за это, видим какую-то еще не открытую страну, границ которой ни кто еще не обозрел, некое по ту сторону всех прежних земель и уголков идеала, мир до того богатый прекрасным, чуждым, сомнительным, страшным и божественным, что наше любопытство, как и наша жажда обладания, выходит из себя – ах! и мы уже ничем не можем насытиться! Как смогли бы мы, после таких перспектив и с таким ненасытным голодом на совесть и весть, довольствоваться еще современным человеком? Довольно скверно; но и невозможно, чтобы мы только с деланной серьезностью взирали и, пожалуй, даже вовсе не взирали на его почтеннейшие цели и надежды. Нам преподносится другой идеал, причудливый, соблазнительный, рискованный идеал, к которому мы никого не хотели бы склонить; ибо ни за кем не признаем столь легкого права на него: идеал духа, который наивно, стал быть, сам того не желая и из бьющего через край избытка полноты и мощи играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным; для которого то наивысшее, в чем народ по справедливости обладает своим ценностным мерилом, означало бы уже опасность, упадок, унижение или, по меньшей мере, отдых, слепоту, временное самозабвение; идеал человечески-сверхчеловеческого благополучия и благоволения, который довольно часто выглядит нечеловеческим, скажем, когда он рядом со всей бывшей на земле серьезностью, рядом со всякого рода торжественностью в жесте, слове, звучании, взгляде, морали и задаче изображает как бы их живейшую непроизвольную пародию, - и со всем тем, несмотря на все то, быть может, только теперь и появляется впервые великая серьезность, впервые ставится вопросительный знак, поворачивается судьба души, сдвигается стрелка, начинается трагедия…
383
Эпилог.
Но между тем как я в заключение без всякой спешки вырисовываю этот мрачный вопросительный знак и все еще намереваюсь напомнить моим читателям добродетели правильного чтения – о, какие это забытые и неведомые добродетели! – вокруг меня громко раздается самый что ни на есть злой, сочный, кобольдовый смех: сами духи моей книги обрушиваются на меня, тянут меня за уши и призывают меня к порядку. “Нам уже невтерпеж, - кричат они мне, - прочь, прочь с этой воронье-черной музыкой. Разве вокруг нас не светлое утро? И зеленая мягкая почва и лужайка, королевство танца? Был ли когда-либо более подходящий час для веселья? Кто споет нам песню, дополуденную песню, такую солнечную, такую легкую, такую летучую, что не спугнет и сверчков, - скорее, пригласит сверчков петь и танцевать вместе с нею? И лучше даже дурацкая мужицкая волынка, нежели эти таинственные звуки, эти кваканья жаб, могильные голоса и сурочьи высвисты, которыми вы до сих пор потчевали нас в вашем захолустье, господин отшельник и музыкант будущего! Нет! Не надо таких тонов! Настройте нас на более приятный и более радостный лад!” – Вам это так по вкусу, мои нетерпеливые друзья? Ну что ж! Кто бы не захотел вам угодить? Моя волынка к вашим услугам, моя глотка также – она может издавать несколько хриплые звуки, не взыщите! на то мы и в горах. Но То. что вам придется услышать, по меньшей мере, ново; и если вы этого не поймете, если вы недопоймете певца, что же тут такого! Таково уж “певца проклятье”. Тем отчетливее смогли бы вы внимать его музыке и мотиву, тем лучше плясалось бы вам под его посвистыванье. Хотите ли вы этого?..

МИФОЛОГИЯ




МИФ/MYTH | МИФОЛОГИЯ/MYTHOLOGY | МИФОЛОГИЧЕСКИЙ/MYTHOLOGICAL | МИФИЧЕСКИЙ/MYTHICAL
ФИЛОСОФИЯ/PHILOSOPHY | ЭТИКА /ETHICS | ЭСТЕТИКА/AESTHETICS | ПСИХОЛОГИЯ/PSYCHOLOGY
ФИЛОСОФ | ПСИХОЛОГ | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ


| ГОМЕР | ИЛИАДА | ОДИССЕЯ | ЗОЛОТОЕ РУНО | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ |
| БЕЛАЯ БОГИНЯ | МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ЦАРЬ ИИСУС |
МИФОЛОГИЯ \ФИЛОСОФИЯ\ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА\ ПСИХОЛОГИЯ

| РОБЕРТ ГРЕЙВС. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА |
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ \
ЛЖИВЫЙ \ ЛОЖНЫЙ \ ЛОЖЬ \ ОБМАН \ ЗАБЛУЖДЕНИЕ \ ОБМАНЧИВОСТЬ \

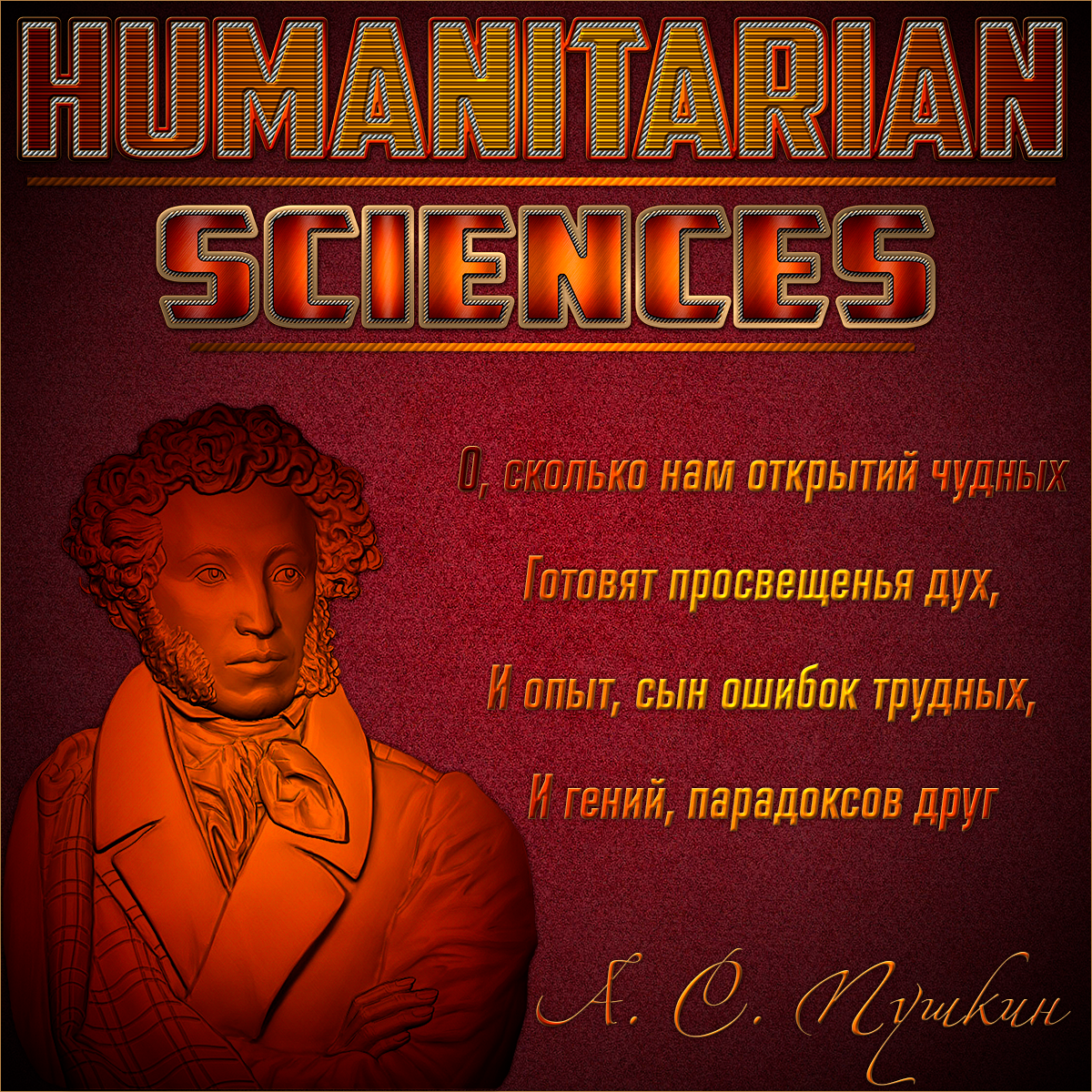











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ




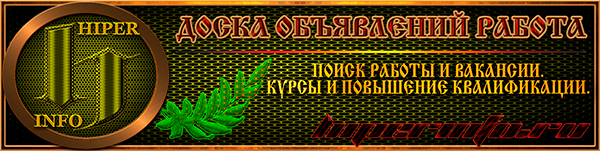

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.