- 917 Просмотров
- Обсудить

НИЦШЕ \ НИЦШЕ (10)\НИЦШЕ (9)\НИЦШЕ (8)\НИЦШЕ (7)\НИЦШЕ (6)
НИЦШЕ (5)\НИЦШЕ (4)\НИЦШЕ (3)\НИЦШЕ (2)\НИЦШЕ
Воля к власти (0) Воля к власти (2) Воля к власти (3) Воля к власти (4) Воля к власти (5)
Воля к власти (6) Воля к власти (7) Воля к власти (8) Воля к власти (9) Воля к власти (10)
ФИЛОСОФИЯ \ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА \ ПСИХОЛОГИЯ
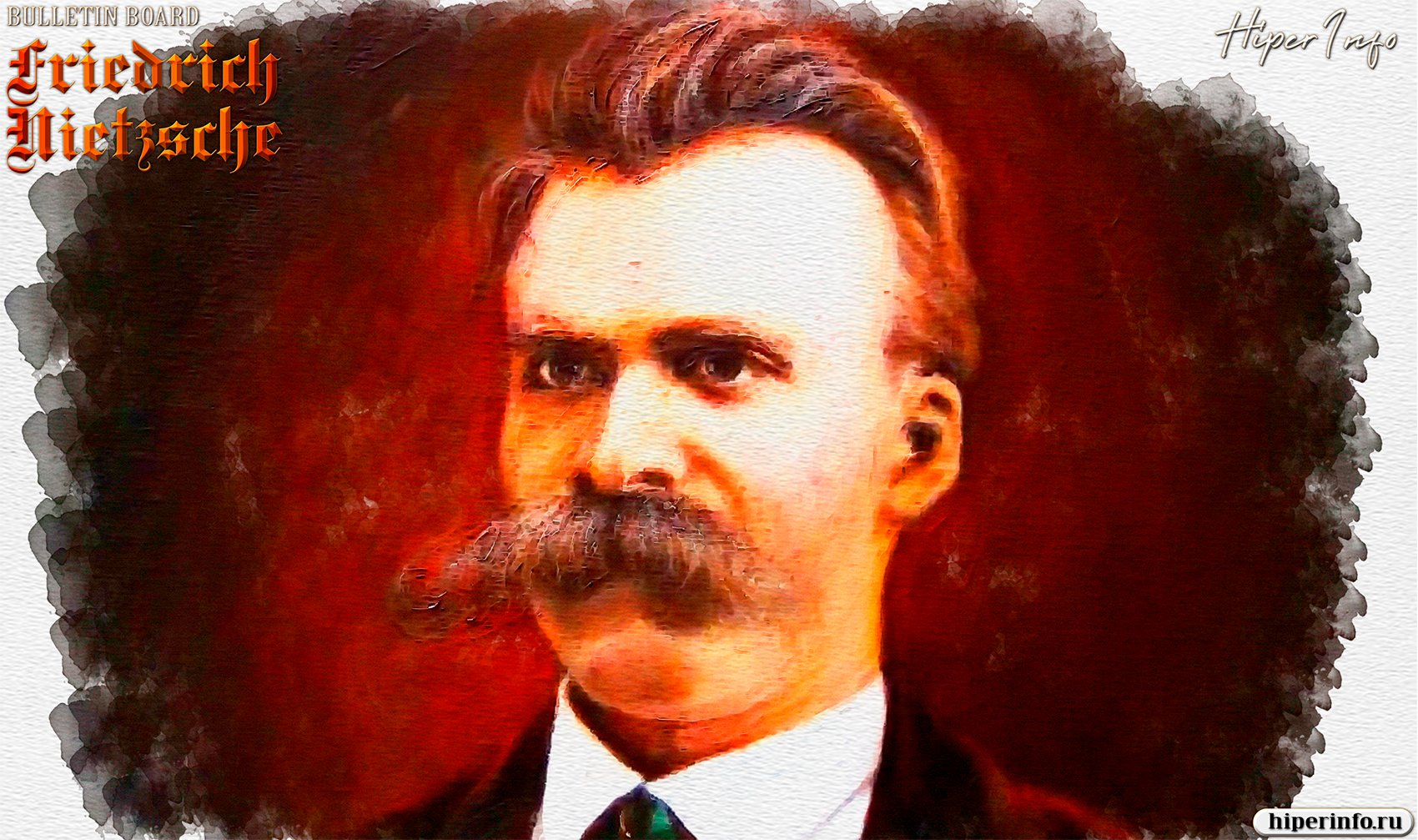
ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ГРУППА / ГРУППОВОЕ / КОЛЛЕКТИВ / КОЛЛЕКТИВНОЕ / СОЦИАЛЬНЫЙ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХИКА / ПСИХИЧЕСКИЙ / ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ / ПСИХОАНАЛИЗ
ФИЛОСОФИЯ / ЭТИКА / ЭСТЕТИКА / ФИЛОСОФ / ПСИХОЛОГ / ПОЭТ / ПИСАТЕЛЬ
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE / ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

НИЦШЕ / NIETZSCHE / ЕССЕ HOMO / ВОЛЯ К ВЛАСТИ / К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ / СУМЕРКИ ИДОЛОВ /
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА / ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА / ЗЛАЯ МУДРОСТЬ / УТРЕННЯЯ ЗАРЯ /
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ / СТИХИ НИЦШЕ / РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ




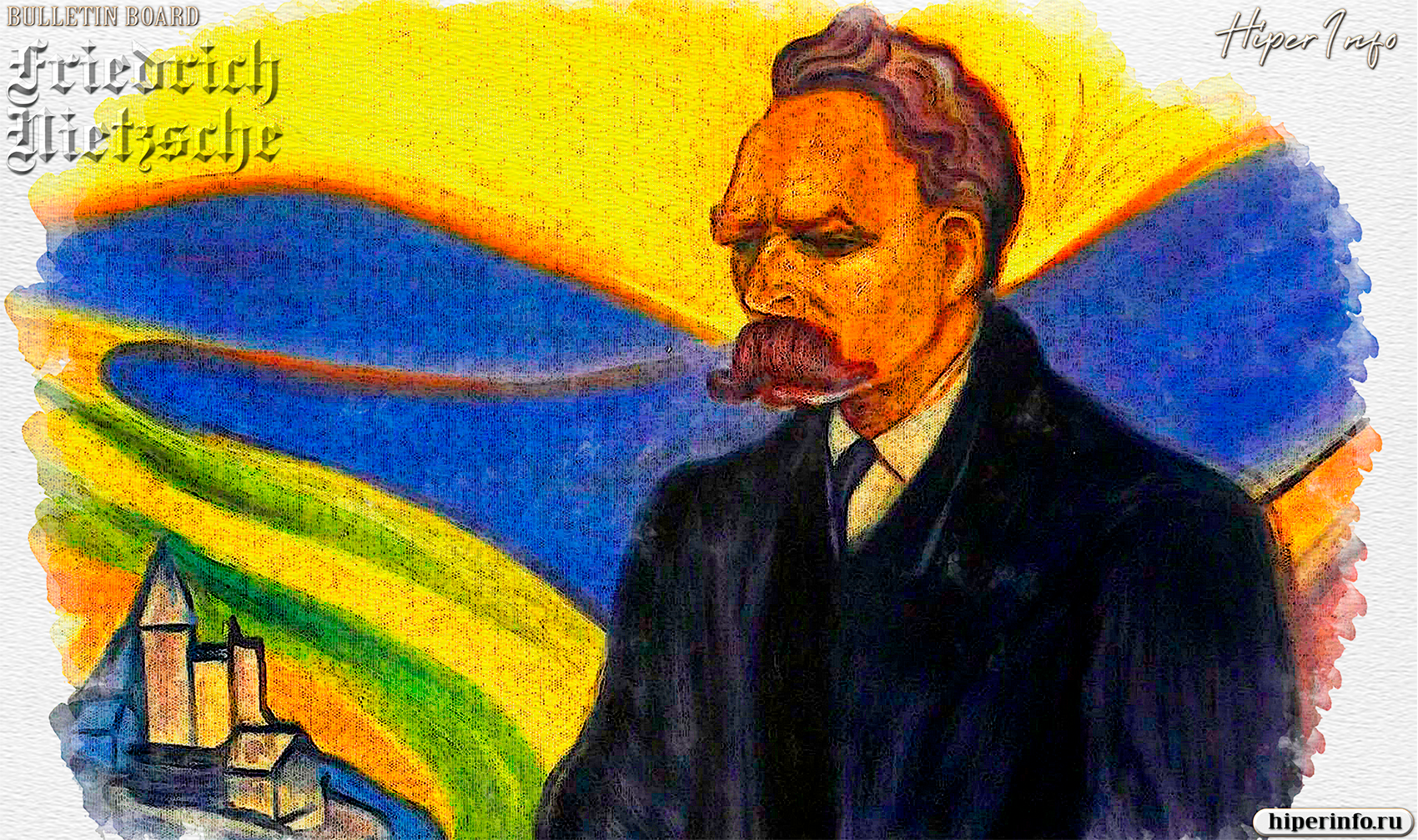




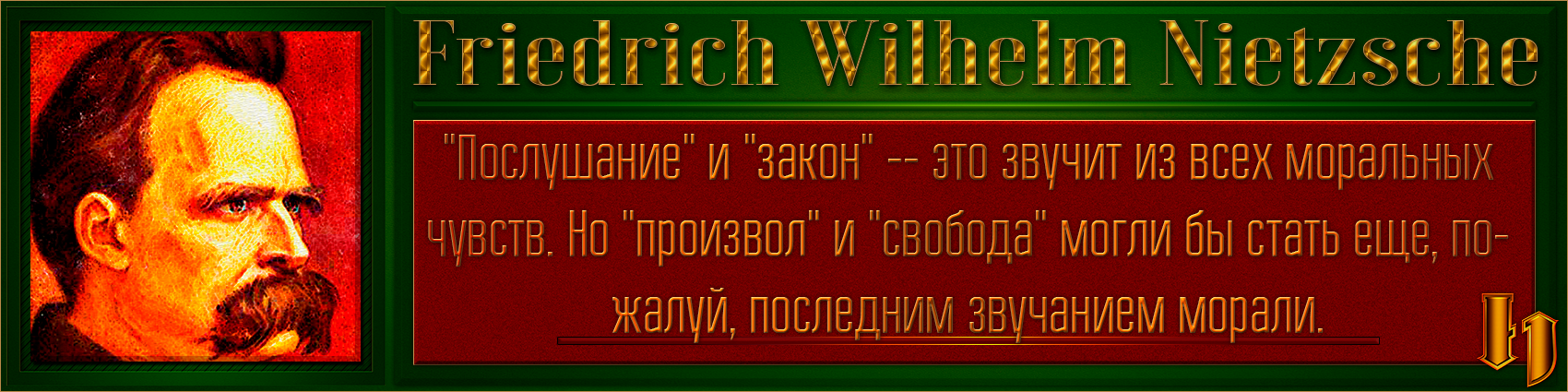


 Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше
ФРИДРИХ НИЦШЕ
FRIEDRICH NIETZSCHE ВЕСЁЛАЯ НАУКА
("LA GAYA SCIENZA")

ПЕРВАЯ КНИГА
1
Учителя о цели существования.
Каким бы взглядом, добрым или злым, ни смотрел я на людей, я нахожу их всегда поглощенными одной задачей, всех и каждого в отдельности: делать то, что способствует сохранению рода человеческого. И вовсе не из чувства любви к этому роду, а просто потому, что в них нет ничего, что было бы старше, сильнее, беспощаднее, неопреодолимее этого инстинкта, - ибо инстинкт этот как раз и есть сущность нашей породы и нашего стада. И хотя люди с присущей им близорукостью, доставляющей на пять шагов, довольно быстро привыкают тщательно делить своих ближних на полезных и вредных, добрых и злых, все-таки, беря в больших масштабах и по более длительному размышлению о целом, становишься недоверчивым к этой тщательности и этому разделению и вконец утверждаешься в своем сомнении. Даже вреднейший человек есть, быть может, все еще полезнейший в том, что касается сохранения рода, ибо он поддерживает в себе или, посредством своего воздействия, в других влечения, без которых человечество давно ослабло бы и обленилось. Ненависть, злорадство, хищность, властолюбие и что бы еще ни называлось злым принадлежат к удивительной экономии сохранения рода, разумеется дорогостоящей, расточительной и в целом весьма глупой экономии, которая, однако, до сих пор убедительным образом сохраняла наш род. Я и не знаю, можешь ли ты, милый мой сородич и ближний, вообще жить в ущерб роду, стало быть, “неразумно” и “дурно”; то, что могло бы повредить роду, пожалуй, вымерло уже много тысячелетий назад и принадлежит теперь к невозможным даже для самого Бога вещам. Отдайся лучшим твоим или худшим влечениям и прежде всего погибни! – в обоих случаях ты, по-видимому, окажешься в некотором смысле все еще покровителем и благодетелем человечества и сможешь на основании этого иметь своих хвалителей – и равным образом пересмешников! Но ты никогда не найдешь того, кто сумел бы в полной мере высмеять тебя, отдельного человека, даже в лучших твоих качествах, кто смог бы в достаточной для тебя мере и сообразно действительности проникнуться твоим безграничным мушиным и лягушачьим убожеством! Смеяться над самим собой так, как следовало бы смеяться, чтобы высмеяться по всей правде, - для этого до сих пор лучшим людям недоставало чувства правды, а одареннейшим гениальности! Быть может, и у смеха есть еще будущее! Оно наступит тогда, когда положение “род есть все, некто есть всегда никто” станет плотью и кровью людей, и каждому в любое время будет открыт доступ к этому последнему освобождению и безответственности. Тогда, быть может, смех соединится с мудростью, быть может, из всех наук останется лишь “веселая наука”. Нынче дело обстоит еще совершенно иначе, нынче комедия существования не “осознала” еще себя самое – нынче царит все еще время трагедии, время нравоучений и религий. Что означает непрерывно новое появление этих основателей моральных учений и религий, этих зачинщиков борьбы за нравственные оценки, этих учителей угрызений совести и религиозных войн? Что означают эти герои на этой сцене? – ибо до сих пор и не было иных героев, а все прочее, лишь временами мелькающее и выпирающее, служило всегда лишь подспорьем этих героев, все равно, в качестве ли технического оборудования сцены и кулис или в роли доверенных лиц и камердинеров. (Поэты, например, всегда были камердинерами какой-нибудь морали.) – Само собой разумеется, что и эти трагики работают в интересах рода, хотя бы им при этом и мнилось, что работают они в интересах Бога и как посланцы Бога. И они способствуют жизни рода, способствуя вере в жизнь. “Жить стоит, - так восклицает каждый из них, - она что-нибудь да значит, эта жизнь, жизнь имеет что-то за собою, под собою, учтите это!” То влечение, которое в равной мере господствует в самых высоких и самых пошлых людях, влечение к сохранению рода, выступает время от времени в качестве разума и духовной страсти; тогда оно окружает себя блистательной свитой оснований и изо всех сил тщится предать забвению, что оно является, по сути, влечением, инстинктом, глупостью, беспочвенностью. Жизнь должна быть любима, так как! Человек должен быть полезным себе и своему ближнему, так как! И как бы еще ни назывались ныне и присно все эти “должен” и “так как”! Для того, чтобы происходящее по необходимости и всегда, само по себе и без всякой цели отныне казалось целеустроенным и светило человеку, как разум и последняя заповедь, - для этого выступает этический наставник в качестве учителя о “цели существования”; для этого изобретает он второе и иное существование и с помощью своей старой механики снимает это старое будничное существование с его старых будничных петель. Да! Он отнюдь не хочет, чтобы мы смеялись над существованием ни над самими собой – ни над ним самим; для него некто всегда есть некто, нечто первое и последнее и неслыханное, для него не существует никакого рода, никаких сумм, никаких нулей. Как бы глупы и химеричны ни были его вымыслы и оценки, как бы ни недооценивал он хода при родных событий и ни отрицал его условий – а все этики были до сих пор настолько глупы и противоестественны, что от каждой из них человечество сгинуло бы, овладей они человечеством, - тем не менее! всякий раз, когда “герой” вступал на подмостки, достигалось нечто новое, до жути противоположное смеху, то глубокое потрясение множества индивидуумов при мысли: “Да жить стоит! Да, и я стою того, чтобы жить!” – жизнь и я и ты и все мы вместе снова на некоторое время становились себе интересными. – Нельзя отрицать, что до сих пор над каждым из этих великих учителей цели надолго воцарялись и смех, и разум, и природа: короткая трагедия в конце концов переходила всегда в вечную комедию существования, и “волны несметного смеха” - говоря вместе с Эсхилом – должны еще разразиться над величайшими из названных трагиков. Но при всем этом исправительном смехе все же непрерывно новое появление учителей о цели существования в целом изменило человеческую природу – теперь у нее стало одной потребностью больше, именно, потребностью в непрерывно новом появлении таких учителей и учений о “цели”. Человек понемногу стал фантастическим животным, которое в большей степени, чем любое другое животное, тщится оправдать условие существования: человеку должно время от времени казаться, что он знает, почему он существует, его порода не в состоянии преуспевать без периодического доверия к жизни! без веры в разум, присущий жизни! И снова время от времени будет человеческий род постановлять: “есть нечто, над чем абсолютно нельзя больше смеяться!” А наиболее осмотрительный друг людей добавит к этому: “не только смех и веселая мудрость, но и трагическое со всем его возвышенным неразумием принадлежит к числу необходимых средств сохранения рода!” – И следовательно! Следовательно! Следовательно! О, понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон прилива и отлива? И у нас есть свое время!
2
Интеллектуальная совесть.
Я постоянно прихожу к одному и тому же заключению и всякий раз наново противлюсь ему, я не хочу в него верить, хотя и осязаю его как бы руками: подавляющему большинству недостает интеллектуальной совести; мне даже часто кажется, что тот, кто притязает на нее, и в самых населенных городах пребывает одиноким, как в пустыне. Каждый смотрит на тебя чужими глазами и продолжает орудовать своими весами, называя это хорошим, а то плохим; ни у кого не проступит на лице краска стыда, когда ты даешь ему понять, что гири эти не полновесны, - никто и не вознегодует на тебя: возможно, над твоим сомнением просто посмеются. Я хочу сказать: подавляющее большинство не считает постыдным верить в то или другое и жить сообразно этой вере, не отдавая себе заведомо отчета в последних и достовернейших доводах за и против, даже не утруждая себя поиском таких доводов, - самые одаренные мужчины и самые благородные женщины принадлежат все еще к этому “подавляющему большинству”. Что, однако, значат для меня добросердечие, утонченность и гений, если человек, обладающий этими добродетелями, позволяет себе вялость чувств в мнениях и суждениях, если взыскание достоверности не является для него внутреннейшей страстью и глубочайшей потребностью – как нечто такое, что отделяет высших людей от низших! Я подмечал у иных благочестивых людей ненависть к разуму и был им за это признателен: по крайней мере здесь выдавала себя еще хоть злая интеллектуальная совесть! Но стоять среди этой rerum concordia discors, среди всей чудесной неопределенности и многосмысленности существования и не вопрошать, не трепетать от страсти и удовольствия самого вопрошания, даже не испытывать ненависти к вопрошающему, а лишь вяло, пожалуй, над ним потешаться – вот что ощущаю я постыдным, и именно этого ощущения ищу я прежде всего в каждом человеке: какое-то сумасбродство убеждает меня все снова и снова, что каждый человек, будучи человеком, испытывает его. Это и есть мой род несправедливости.
3
Благородное и пошлое.
Пошлым натурам все благородные, великодушные чувства кажутся нецелесообразными и оттого первым делом заслуживающими недоверия: они хлопают глазами, слыша о подобных чувствах, и как бы желают сказать: “наверное, здесь кроется какая-то большая выгода, нельзя же всего знать” – они питают подозрение к благородному, как если бы оно окольными путями искало себе выгоды. Если же они воочию убеждаются в отсутствии своекорыстных умыслов и прибылей, то благородный человек кажется им каким-то глупцом: они презирают его в его радости и смеются над блеском его глаз. “Как можно радоваться собственному убытку, как можно с открытыми глазами очутиться в проигрыше! С благородными склонностями должна быть связана какая-то болезнь ума” – так думают они и при этом поглядывают свысока, не скрывая презрения к радости, которую сумасшедший испытывает от своей навязчивой идеи. Пошлая натура тем и отличается, что она незыблемо блюдет собственную выгоду и что эта мысль о цели и выгоде в ней сильнее самых сильных влечений: не соблазниться своими влечениями к нецелесообразным поступкам - такова ее мудрость и ее самолюбие. В сравнении с нею высшая натура оказывается менее разумной, ибо благородный, великодушный, самоотверженный уступает на деле собственным влечениям и в лучшие свои мгновения дает разуму передышку. Зверь, охраняющий с опасностью для жизни своих детенышей или следующий во время течки за самкою даже на смерть, не думает об опасности и смерти; его ум равным образом делает передышку, ибо удовольствие, возбуждаемое в нем его приплодом или самкою, и боязнь лишиться этого удовольствия в полной мере владеют им; подобно благородному и великодушному человеку, он делается глупее прежнего. Чувства удовольствия и неудовольствия здесь столь сильны, что интеллект в их присутствии должен замолкнуть либо пойти к ним в услужение: тогда у такого человека сердце переходит в голову, и это называется отныне “страстью”. (Конечно, временами выступает и нечто противоположное, как бы “страсть наизнанку”, к примеру, у Фонтенеля, которому кто-то сказал однажды, положив руку на сердце: “То. что у Вас тут есть, мой дорогой, это тоже мозг”.) Неразумие или косоразумие страсти и оказывается тем, что пошлый презирает в благородном, в особенности когда оно обращено на объекты, ценность которых кажется ему совершенно фантастичной и произвольной. Он злится на того, кто не в силах совладеть со страстями брюха, но ему все же понятна прелесть, которая здесь тиранит; чего он не понимает, так это, к примеру, способности поставить на карту свое здоровье и честь во исполнение познавательной страсти. Вкус высшей натуры обращается на исключения, на вещи, которые по обыкновению никого не трогают и выглядят лишенными всяческой сладости; высшей натуре присуща своеобычная мера стоимости. При этом большей частью она и не предполагает, что в идиосинкразии ее вкуса наличествует эта самая своеобычная мера стоимости; скорее, она принимает собственные представления о ценности и никчемности за общезначимые и упирается тем самым в непонятное и непрактичное. Крайне редкий случай, когда высшая натура в такой степени обладает разумом, что понимает обывателей и обращается с ними, как они есть; в большинстве случаев она верит в собственную страсть как в нечто неявно присущее всем людям, и именно эта вера исполняет ее пыла и красноречия. Если же и такие исключительные люди не чувствуют себя исключениями, как должно было им удаваться когда-либо понимать пошлые натуры и достойным образом оценивать правило, исключениями из которого они являются! -–и вот сами они разглагольствуют о глупости, негодности и нелепости человечества, изумляясь тому, сколь безумны судьбы мира и почему он не желает сознаться себе в том, что “ему нужно”. – Такова извечная несправедливость благородных.
4
Сохраняющее род.
Самые сильные и самые злые умы до сих пор чаще всего способствовали развитию человечества: они непрестанно воспламеняли засыпающие страсти – всякое упорядоченное общество усыпляет страсти, - они непрестанно пробуждали чувство сравнения, противоречия, взыскания нового, рискованного, неизведанного, они принуждали людей выставлять мнения против мнений, образцы против образцов. Это делалось оружием, ниспровержением межевых знаков, чаще всего оскорблением благочестия, - но и новыми религиями и нравоучениями! Каждому учителю и проповеднику нового присуща та же “злость”, которая дискредитирует завоевателя, хотя она и обнаруживается более утонченно, без моментального перехода в мышечные реакции, и именно поэтому не столь дискредитирующим образом! Новое, однако, при всех обстоятельствах есть злое, нечто покоряющее, силящееся ниспровергнуть старые межевые знаки и старые формы благочестия, и лишь старое остается добрым! Добрыми людьми во все времена оказываются те, кто поглубже зарывает старые мысли и удобряет ими плодоносную ниву, - земледельцы духа. Но каждая земля в конце концов осваивается, и все снова и снова должен появляться лемех злого. – Нынче существует одно основательное лжеучение морали, особенно чествуемое в Англии: согласно этому учению, понятия “добро” и “зло” являются результатами опытных наблюдений над “целесообразным” и “нецелесообразным”; согласно ему, то, что называется “добрым”, содействует сохранению рода, а то, что называется “злым”, вредит ему. На деле, однако, злые влечения целесообразны, родоохранительны и необходимы не в меньшей степени, чем добрые, - лишь функция их различна.
5
Безусловные обязанности.
Все люди, которые испытывают нужду в наиболее сильных словах и звучаниях, в красноречивейших жестах и позах, чтобы вообще воздействовать, - революционные политики, социалисты, проповедники покаяния с христианством или без него, все те, для которых неприемлем всякий половинчатый успех, - все они говорят об “обязанностях”, и только об обязанностях, носящих безусловный характер, - без таковых они нее имели бы никакого права на свой большой пафос: это отлично известно и им самим! Так, хватаются они за нравственные философии, проповедующие какой-нибудь категорический императив, или они принимают в себя толику религии, как это сделал, например, Мадзини. Поскольку им хочется внушить к себе безусловное доверие, им необходимо прежде всего безусловно доверять самим себе, на почве какой-нибудь последней непререкаемой и в себе возвышенной заповеди, служителями и орудиями которой они себя чувствуют и выставляют. Здесь мы имеем самых естественных и большей частью весьма влиятельных противников нравственного просвещения и скепсиса – но они встречаются редко. Напротив, очень обширный класс этих противников наличествует всюду, где интерес учит подчинению, в то время как репутация и честь, казалось бы, запрещают подчинение. Тот, кто чувствует себя обесчещенным при одной лишь мысли, что он является орудием в руках какого-либо правителя или какой-либо партии и секты, или даже денежной власти, и, будучи, к примеру, отпрыском старой гордой фамилии, тем не менее хочет или вынужден быть в своих собственных глазах и в глазах общественности этим орудием, тому необходимы патетические принципы, которые всякий раз можно иметь на кончике языка, - принципы безусловного долженствования, которым можно подчиняться, делая это напоказ, без всякого стыда. Любое более утонченное раболепие крепко держится за категорический императив и является смертельным врагом тех, кто силится отнять у долга его безусловный характер: этого требует у них приличие, и не только приличие.
6
Утрата достоинства.
Размышление утратило все свое достоинство формы; церемониал и торжественные жесты размышляющего человека сделались предметом насмешек, и теперь уже едва ли кто-либо вынес бы мудреца старого стиля. Мы мыслим слишком быстро, мимоходом, попутно, между всяческих дел и занятий, даже когда мыслим о самом серьезном; мы мало нуждаемся в подготовке, даже в покое: дело обстоит так, словно бы мы несли в голове безостановочно вращающуюся машину, продолжающую работать даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Некогда по каждому было видно, что он намеревался мыслить – это ведь являлось исключением! – что он хотел стать мудрее и выказывал готовность к какой-нибудь мысли: лица вытягивались как бы в молитвенном выражении, и замедлялся шаг; случалось, что часами останавливались на улице, когда “приходила” мысль, - на одной или на двух ногах. Так это больше “приличествовало делу”!
7
Нечто для трудолюбивых.
Кто нынче вознамерится посвятить себя изучению моральных вопросов, тому откроется неслыханное поприще для работы. Все виды страстей должны быть продуманы в розницу, прослежены в прогоне через эпохи; народы, большие и малые, весь их разум и все их оценки и разъяснения вещей выведены на свет Божий. До сих пор все, что придавало красочность бытию, не имеет еще истории: разве существует история любви, алчности, зависти, совести, благочестия, жестокости? Даже сравнительная история права или хотя бы только наказания полностью отсутствует до сих пор. Делались ли уже предметом исследования различные подразделения дня, следствия правильного распределения труда, празднеств и досуга? Известны ли моральные воздействия продуктов питания? Существует ли философия питания? (Уже постоянно возобновляемый шум за и против вегетарианства доказывает, что таковой философии покуда нет!) Собраны ли уже опытные наблюдения над совместной жизнью, например, наблюдения над монастырями? Описана ли уже диалектика брака и дружбы? Нравы ученых, торговцев, художников, ремесленников -–нашли ли они уже своих мыслителей? А думать об этом предстоит так много! Разве уже исследовано окончательно все то, что люди рассматривали до сих пор “условия их существования”, и все разумное, страстное и суеверное в самом этом рассмотрении? Одно лишь наблюдение различного роста, который, в зависимости от различий морального климата, приобретали и могут еще приобретать человеческие влечения, предлагает колоссальную работу для трудолюбивейшего; понадобились бы целые поколения и при этом планомерно сотрудничающие поколения ученых, чтобы исчерпать здесь все точки зрения и материал. Аналогично обстоит дело и с доказательством оснований различных моральных климатов (“отчего здесь светит одно солнце морального принципа и критерия – а там другое?”). И вновь это оборачивается новой работой, устанавливающей ложность всех подобных оснований и всего существа прежних моральных суждений. Если допустить, что названные труды были бы осуществлены, тогда на передний план выступил бы наиболее щекотливый из всех вопросов: способна ли наука полагать цели поступкам, после того как она доказала, что она может отнимать и уничтожать таковые, - и тогда уместным оказалось бы экспериментирование, в котором всякий вид героизма мог бы получить удовлетворение, - затянувшееся на столетия экспериментирование, смогшее бы оставить в тени все великие свершения и самопожертвования бывшей истории. Наука покуда не выстроила еще своих циклопических построек; и этому настанет время!
1
Учителя о цели существования.
Каким бы взглядом, добрым или злым, ни смотрел я на людей, я нахожу их всегда поглощенными одной задачей, всех и каждого в отдельности: делать то, что способствует сохранению рода человеческого. И вовсе не из чувства любви к этому роду, а просто потому, что в них нет ничего, что было бы старше, сильнее, беспощаднее, неопреодолимее этого инстинкта, - ибо инстинкт этот как раз и есть сущность нашей породы и нашего стада. И хотя люди с присущей им близорукостью, доставляющей на пять шагов, довольно быстро привыкают тщательно делить своих ближних на полезных и вредных, добрых и злых, все-таки, беря в больших масштабах и по более длительному размышлению о целом, становишься недоверчивым к этой тщательности и этому разделению и вконец утверждаешься в своем сомнении. Даже вреднейший человек есть, быть может, все еще полезнейший в том, что касается сохранения рода, ибо он поддерживает в себе или, посредством своего воздействия, в других влечения, без которых человечество давно ослабло бы и обленилось. Ненависть, злорадство, хищность, властолюбие и что бы еще ни называлось злым принадлежат к удивительной экономии сохранения рода, разумеется дорогостоящей, расточительной и в целом весьма глупой экономии, которая, однако, до сих пор убедительным образом сохраняла наш род. Я и не знаю, можешь ли ты, милый мой сородич и ближний, вообще жить в ущерб роду, стало быть, “неразумно” и “дурно”; то, что могло бы повредить роду, пожалуй, вымерло уже много тысячелетий назад и принадлежит теперь к невозможным даже для самого Бога вещам. Отдайся лучшим твоим или худшим влечениям и прежде всего погибни! – в обоих случаях ты, по-видимому, окажешься в некотором смысле все еще покровителем и благодетелем человечества и сможешь на основании этого иметь своих хвалителей – и равным образом пересмешников! Но ты никогда не найдешь того, кто сумел бы в полной мере высмеять тебя, отдельного человека, даже в лучших твоих качествах, кто смог бы в достаточной для тебя мере и сообразно действительности проникнуться твоим безграничным мушиным и лягушачьим убожеством! Смеяться над самим собой так, как следовало бы смеяться, чтобы высмеяться по всей правде, - для этого до сих пор лучшим людям недоставало чувства правды, а одареннейшим гениальности! Быть может, и у смеха есть еще будущее! Оно наступит тогда, когда положение “род есть все, некто есть всегда никто” станет плотью и кровью людей, и каждому в любое время будет открыт доступ к этому последнему освобождению и безответственности. Тогда, быть может, смех соединится с мудростью, быть может, из всех наук останется лишь “веселая наука”. Нынче дело обстоит еще совершенно иначе, нынче комедия существования не “осознала” еще себя самое – нынче царит все еще время трагедии, время нравоучений и религий. Что означает непрерывно новое появление этих основателей моральных учений и религий, этих зачинщиков борьбы за нравственные оценки, этих учителей угрызений совести и религиозных войн? Что означают эти герои на этой сцене? – ибо до сих пор и не было иных героев, а все прочее, лишь временами мелькающее и выпирающее, служило всегда лишь подспорьем этих героев, все равно, в качестве ли технического оборудования сцены и кулис или в роли доверенных лиц и камердинеров. (Поэты, например, всегда были камердинерами какой-нибудь морали.) – Само собой разумеется, что и эти трагики работают в интересах рода, хотя бы им при этом и мнилось, что работают они в интересах Бога и как посланцы Бога. И они способствуют жизни рода, способствуя вере в жизнь. “Жить стоит, - так восклицает каждый из них, - она что-нибудь да значит, эта жизнь, жизнь имеет что-то за собою, под собою, учтите это!” То влечение, которое в равной мере господствует в самых высоких и самых пошлых людях, влечение к сохранению рода, выступает время от времени в качестве разума и духовной страсти; тогда оно окружает себя блистательной свитой оснований и изо всех сил тщится предать забвению, что оно является, по сути, влечением, инстинктом, глупостью, беспочвенностью. Жизнь должна быть любима, так как! Человек должен быть полезным себе и своему ближнему, так как! И как бы еще ни назывались ныне и присно все эти “должен” и “так как”! Для того, чтобы происходящее по необходимости и всегда, само по себе и без всякой цели отныне казалось целеустроенным и светило человеку, как разум и последняя заповедь, - для этого выступает этический наставник в качестве учителя о “цели существования”; для этого изобретает он второе и иное существование и с помощью своей старой механики снимает это старое будничное существование с его старых будничных петель. Да! Он отнюдь не хочет, чтобы мы смеялись над существованием ни над самими собой – ни над ним самим; для него некто всегда есть некто, нечто первое и последнее и неслыханное, для него не существует никакого рода, никаких сумм, никаких нулей. Как бы глупы и химеричны ни были его вымыслы и оценки, как бы ни недооценивал он хода при родных событий и ни отрицал его условий – а все этики были до сих пор настолько глупы и противоестественны, что от каждой из них человечество сгинуло бы, овладей они человечеством, - тем не менее! всякий раз, когда “герой” вступал на подмостки, достигалось нечто новое, до жути противоположное смеху, то глубокое потрясение множества индивидуумов при мысли: “Да жить стоит! Да, и я стою того, чтобы жить!” – жизнь и я и ты и все мы вместе снова на некоторое время становились себе интересными. – Нельзя отрицать, что до сих пор над каждым из этих великих учителей цели надолго воцарялись и смех, и разум, и природа: короткая трагедия в конце концов переходила всегда в вечную комедию существования, и “волны несметного смеха” - говоря вместе с Эсхилом – должны еще разразиться над величайшими из названных трагиков. Но при всем этом исправительном смехе все же непрерывно новое появление учителей о цели существования в целом изменило человеческую природу – теперь у нее стало одной потребностью больше, именно, потребностью в непрерывно новом появлении таких учителей и учений о “цели”. Человек понемногу стал фантастическим животным, которое в большей степени, чем любое другое животное, тщится оправдать условие существования: человеку должно время от времени казаться, что он знает, почему он существует, его порода не в состоянии преуспевать без периодического доверия к жизни! без веры в разум, присущий жизни! И снова время от времени будет человеческий род постановлять: “есть нечто, над чем абсолютно нельзя больше смеяться!” А наиболее осмотрительный друг людей добавит к этому: “не только смех и веселая мудрость, но и трагическое со всем его возвышенным неразумием принадлежит к числу необходимых средств сохранения рода!” – И следовательно! Следовательно! Следовательно! О, понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон прилива и отлива? И у нас есть свое время!
2
Интеллектуальная совесть.
Я постоянно прихожу к одному и тому же заключению и всякий раз наново противлюсь ему, я не хочу в него верить, хотя и осязаю его как бы руками: подавляющему большинству недостает интеллектуальной совести; мне даже часто кажется, что тот, кто притязает на нее, и в самых населенных городах пребывает одиноким, как в пустыне. Каждый смотрит на тебя чужими глазами и продолжает орудовать своими весами, называя это хорошим, а то плохим; ни у кого не проступит на лице краска стыда, когда ты даешь ему понять, что гири эти не полновесны, - никто и не вознегодует на тебя: возможно, над твоим сомнением просто посмеются. Я хочу сказать: подавляющее большинство не считает постыдным верить в то или другое и жить сообразно этой вере, не отдавая себе заведомо отчета в последних и достовернейших доводах за и против, даже не утруждая себя поиском таких доводов, - самые одаренные мужчины и самые благородные женщины принадлежат все еще к этому “подавляющему большинству”. Что, однако, значат для меня добросердечие, утонченность и гений, если человек, обладающий этими добродетелями, позволяет себе вялость чувств в мнениях и суждениях, если взыскание достоверности не является для него внутреннейшей страстью и глубочайшей потребностью – как нечто такое, что отделяет высших людей от низших! Я подмечал у иных благочестивых людей ненависть к разуму и был им за это признателен: по крайней мере здесь выдавала себя еще хоть злая интеллектуальная совесть! Но стоять среди этой rerum concordia discors, среди всей чудесной неопределенности и многосмысленности существования и не вопрошать, не трепетать от страсти и удовольствия самого вопрошания, даже не испытывать ненависти к вопрошающему, а лишь вяло, пожалуй, над ним потешаться – вот что ощущаю я постыдным, и именно этого ощущения ищу я прежде всего в каждом человеке: какое-то сумасбродство убеждает меня все снова и снова, что каждый человек, будучи человеком, испытывает его. Это и есть мой род несправедливости.
3
Благородное и пошлое.
Пошлым натурам все благородные, великодушные чувства кажутся нецелесообразными и оттого первым делом заслуживающими недоверия: они хлопают глазами, слыша о подобных чувствах, и как бы желают сказать: “наверное, здесь кроется какая-то большая выгода, нельзя же всего знать” – они питают подозрение к благородному, как если бы оно окольными путями искало себе выгоды. Если же они воочию убеждаются в отсутствии своекорыстных умыслов и прибылей, то благородный человек кажется им каким-то глупцом: они презирают его в его радости и смеются над блеском его глаз. “Как можно радоваться собственному убытку, как можно с открытыми глазами очутиться в проигрыше! С благородными склонностями должна быть связана какая-то болезнь ума” – так думают они и при этом поглядывают свысока, не скрывая презрения к радости, которую сумасшедший испытывает от своей навязчивой идеи. Пошлая натура тем и отличается, что она незыблемо блюдет собственную выгоду и что эта мысль о цели и выгоде в ней сильнее самых сильных влечений: не соблазниться своими влечениями к нецелесообразным поступкам - такова ее мудрость и ее самолюбие. В сравнении с нею высшая натура оказывается менее разумной, ибо благородный, великодушный, самоотверженный уступает на деле собственным влечениям и в лучшие свои мгновения дает разуму передышку. Зверь, охраняющий с опасностью для жизни своих детенышей или следующий во время течки за самкою даже на смерть, не думает об опасности и смерти; его ум равным образом делает передышку, ибо удовольствие, возбуждаемое в нем его приплодом или самкою, и боязнь лишиться этого удовольствия в полной мере владеют им; подобно благородному и великодушному человеку, он делается глупее прежнего. Чувства удовольствия и неудовольствия здесь столь сильны, что интеллект в их присутствии должен замолкнуть либо пойти к ним в услужение: тогда у такого человека сердце переходит в голову, и это называется отныне “страстью”. (Конечно, временами выступает и нечто противоположное, как бы “страсть наизнанку”, к примеру, у Фонтенеля, которому кто-то сказал однажды, положив руку на сердце: “То. что у Вас тут есть, мой дорогой, это тоже мозг”.) Неразумие или косоразумие страсти и оказывается тем, что пошлый презирает в благородном, в особенности когда оно обращено на объекты, ценность которых кажется ему совершенно фантастичной и произвольной. Он злится на того, кто не в силах совладеть со страстями брюха, но ему все же понятна прелесть, которая здесь тиранит; чего он не понимает, так это, к примеру, способности поставить на карту свое здоровье и честь во исполнение познавательной страсти. Вкус высшей натуры обращается на исключения, на вещи, которые по обыкновению никого не трогают и выглядят лишенными всяческой сладости; высшей натуре присуща своеобычная мера стоимости. При этом большей частью она и не предполагает, что в идиосинкразии ее вкуса наличествует эта самая своеобычная мера стоимости; скорее, она принимает собственные представления о ценности и никчемности за общезначимые и упирается тем самым в непонятное и непрактичное. Крайне редкий случай, когда высшая натура в такой степени обладает разумом, что понимает обывателей и обращается с ними, как они есть; в большинстве случаев она верит в собственную страсть как в нечто неявно присущее всем людям, и именно эта вера исполняет ее пыла и красноречия. Если же и такие исключительные люди не чувствуют себя исключениями, как должно было им удаваться когда-либо понимать пошлые натуры и достойным образом оценивать правило, исключениями из которого они являются! -–и вот сами они разглагольствуют о глупости, негодности и нелепости человечества, изумляясь тому, сколь безумны судьбы мира и почему он не желает сознаться себе в том, что “ему нужно”. – Такова извечная несправедливость благородных.
4
Сохраняющее род.
Самые сильные и самые злые умы до сих пор чаще всего способствовали развитию человечества: они непрестанно воспламеняли засыпающие страсти – всякое упорядоченное общество усыпляет страсти, - они непрестанно пробуждали чувство сравнения, противоречия, взыскания нового, рискованного, неизведанного, они принуждали людей выставлять мнения против мнений, образцы против образцов. Это делалось оружием, ниспровержением межевых знаков, чаще всего оскорблением благочестия, - но и новыми религиями и нравоучениями! Каждому учителю и проповеднику нового присуща та же “злость”, которая дискредитирует завоевателя, хотя она и обнаруживается более утонченно, без моментального перехода в мышечные реакции, и именно поэтому не столь дискредитирующим образом! Новое, однако, при всех обстоятельствах есть злое, нечто покоряющее, силящееся ниспровергнуть старые межевые знаки и старые формы благочестия, и лишь старое остается добрым! Добрыми людьми во все времена оказываются те, кто поглубже зарывает старые мысли и удобряет ими плодоносную ниву, - земледельцы духа. Но каждая земля в конце концов осваивается, и все снова и снова должен появляться лемех злого. – Нынче существует одно основательное лжеучение морали, особенно чествуемое в Англии: согласно этому учению, понятия “добро” и “зло” являются результатами опытных наблюдений над “целесообразным” и “нецелесообразным”; согласно ему, то, что называется “добрым”, содействует сохранению рода, а то, что называется “злым”, вредит ему. На деле, однако, злые влечения целесообразны, родоохранительны и необходимы не в меньшей степени, чем добрые, - лишь функция их различна.
5
Безусловные обязанности.
Все люди, которые испытывают нужду в наиболее сильных словах и звучаниях, в красноречивейших жестах и позах, чтобы вообще воздействовать, - революционные политики, социалисты, проповедники покаяния с христианством или без него, все те, для которых неприемлем всякий половинчатый успех, - все они говорят об “обязанностях”, и только об обязанностях, носящих безусловный характер, - без таковых они нее имели бы никакого права на свой большой пафос: это отлично известно и им самим! Так, хватаются они за нравственные философии, проповедующие какой-нибудь категорический императив, или они принимают в себя толику религии, как это сделал, например, Мадзини. Поскольку им хочется внушить к себе безусловное доверие, им необходимо прежде всего безусловно доверять самим себе, на почве какой-нибудь последней непререкаемой и в себе возвышенной заповеди, служителями и орудиями которой они себя чувствуют и выставляют. Здесь мы имеем самых естественных и большей частью весьма влиятельных противников нравственного просвещения и скепсиса – но они встречаются редко. Напротив, очень обширный класс этих противников наличествует всюду, где интерес учит подчинению, в то время как репутация и честь, казалось бы, запрещают подчинение. Тот, кто чувствует себя обесчещенным при одной лишь мысли, что он является орудием в руках какого-либо правителя или какой-либо партии и секты, или даже денежной власти, и, будучи, к примеру, отпрыском старой гордой фамилии, тем не менее хочет или вынужден быть в своих собственных глазах и в глазах общественности этим орудием, тому необходимы патетические принципы, которые всякий раз можно иметь на кончике языка, - принципы безусловного долженствования, которым можно подчиняться, делая это напоказ, без всякого стыда. Любое более утонченное раболепие крепко держится за категорический императив и является смертельным врагом тех, кто силится отнять у долга его безусловный характер: этого требует у них приличие, и не только приличие.
6
Утрата достоинства.
Размышление утратило все свое достоинство формы; церемониал и торжественные жесты размышляющего человека сделались предметом насмешек, и теперь уже едва ли кто-либо вынес бы мудреца старого стиля. Мы мыслим слишком быстро, мимоходом, попутно, между всяческих дел и занятий, даже когда мыслим о самом серьезном; мы мало нуждаемся в подготовке, даже в покое: дело обстоит так, словно бы мы несли в голове безостановочно вращающуюся машину, продолжающую работать даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. Некогда по каждому было видно, что он намеревался мыслить – это ведь являлось исключением! – что он хотел стать мудрее и выказывал готовность к какой-нибудь мысли: лица вытягивались как бы в молитвенном выражении, и замедлялся шаг; случалось, что часами останавливались на улице, когда “приходила” мысль, - на одной или на двух ногах. Так это больше “приличествовало делу”!
7
Нечто для трудолюбивых.
Кто нынче вознамерится посвятить себя изучению моральных вопросов, тому откроется неслыханное поприще для работы. Все виды страстей должны быть продуманы в розницу, прослежены в прогоне через эпохи; народы, большие и малые, весь их разум и все их оценки и разъяснения вещей выведены на свет Божий. До сих пор все, что придавало красочность бытию, не имеет еще истории: разве существует история любви, алчности, зависти, совести, благочестия, жестокости? Даже сравнительная история права или хотя бы только наказания полностью отсутствует до сих пор. Делались ли уже предметом исследования различные подразделения дня, следствия правильного распределения труда, празднеств и досуга? Известны ли моральные воздействия продуктов питания? Существует ли философия питания? (Уже постоянно возобновляемый шум за и против вегетарианства доказывает, что таковой философии покуда нет!) Собраны ли уже опытные наблюдения над совместной жизнью, например, наблюдения над монастырями? Описана ли уже диалектика брака и дружбы? Нравы ученых, торговцев, художников, ремесленников -–нашли ли они уже своих мыслителей? А думать об этом предстоит так много! Разве уже исследовано окончательно все то, что люди рассматривали до сих пор “условия их существования”, и все разумное, страстное и суеверное в самом этом рассмотрении? Одно лишь наблюдение различного роста, который, в зависимости от различий морального климата, приобретали и могут еще приобретать человеческие влечения, предлагает колоссальную работу для трудолюбивейшего; понадобились бы целые поколения и при этом планомерно сотрудничающие поколения ученых, чтобы исчерпать здесь все точки зрения и материал. Аналогично обстоит дело и с доказательством оснований различных моральных климатов (“отчего здесь светит одно солнце морального принципа и критерия – а там другое?”). И вновь это оборачивается новой работой, устанавливающей ложность всех подобных оснований и всего существа прежних моральных суждений. Если допустить, что названные труды были бы осуществлены, тогда на передний план выступил бы наиболее щекотливый из всех вопросов: способна ли наука полагать цели поступкам, после того как она доказала, что она может отнимать и уничтожать таковые, - и тогда уместным оказалось бы экспериментирование, в котором всякий вид героизма мог бы получить удовлетворение, - затянувшееся на столетия экспериментирование, смогшее бы оставить в тени все великие свершения и самопожертвования бывшей истории. Наука покуда не выстроила еще своих циклопических построек; и этому настанет время!

МИФОЛОГИЯ




МИФ/MYTH | МИФОЛОГИЯ/MYTHOLOGY | МИФОЛОГИЧЕСКИЙ/MYTHOLOGICAL | МИФИЧЕСКИЙ/MYTHICAL
ФИЛОСОФИЯ/PHILOSOPHY | ЭТИКА /ETHICS | ЭСТЕТИКА/AESTHETICS | ПСИХОЛОГИЯ/PSYCHOLOGY
ФИЛОСОФ | ПСИХОЛОГ | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ


| ГОМЕР | ИЛИАДА | ОДИССЕЯ | ЗОЛОТОЕ РУНО | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ |
| БЕЛАЯ БОГИНЯ | МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ЦАРЬ ИИСУС |
МИФОЛОГИЯ \ФИЛОСОФИЯ\ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА\ ПСИХОЛОГИЯ

| РОБЕРТ ГРЕЙВС. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА |
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ \
ЛЖИВЫЙ \ ЛОЖНЫЙ \ ЛОЖЬ \ ОБМАН \ ЗАБЛУЖДЕНИЕ \ ОБМАНЧИВОСТЬ \

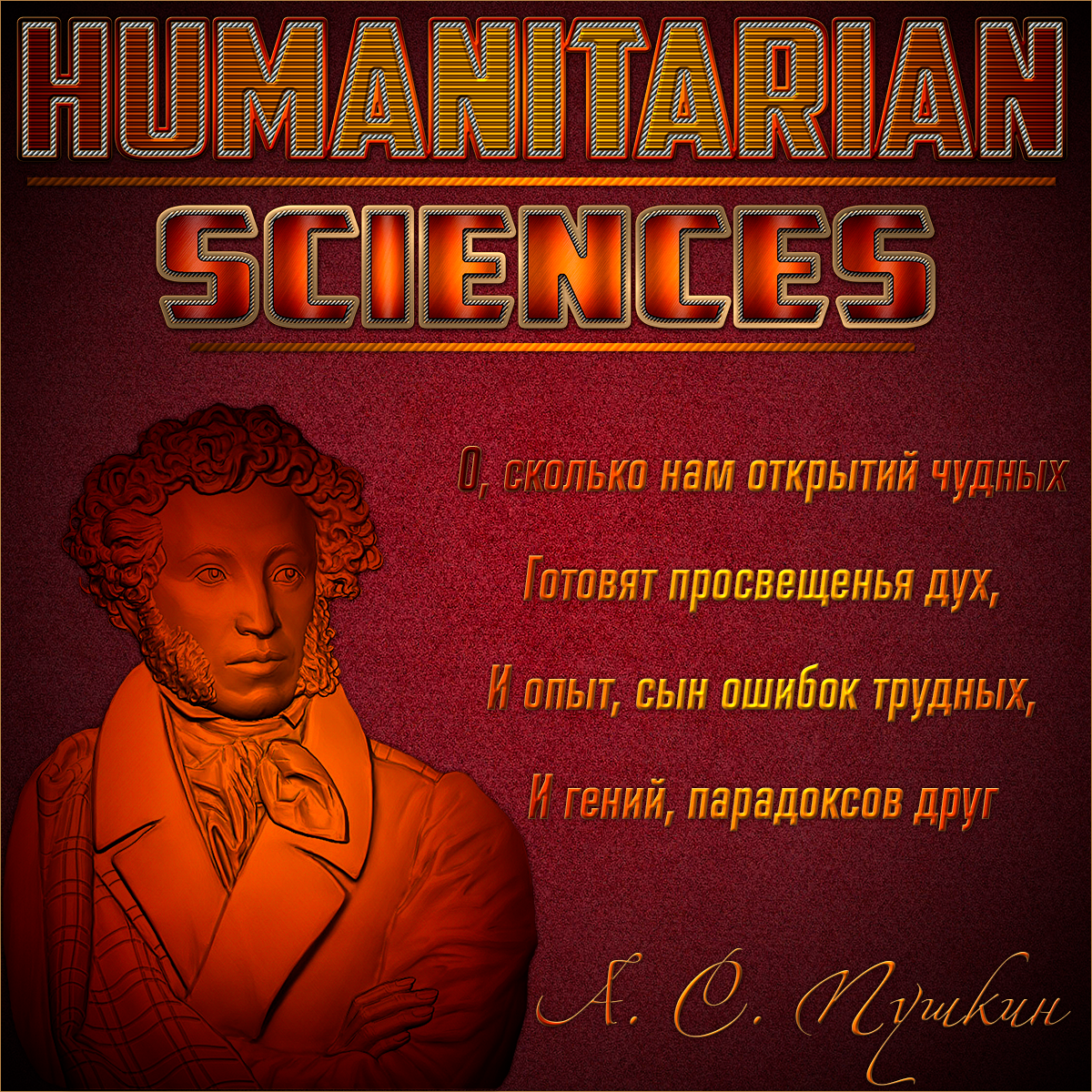











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ




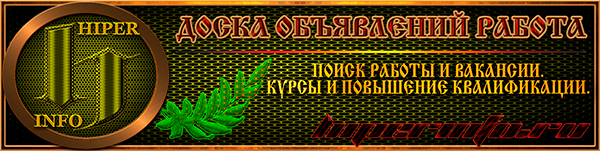

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.