- 176 Просмотров
- Обсудить

НИЦШЕ \ НИЦШЕ (10)\НИЦШЕ (9)\НИЦШЕ (8)\НИЦШЕ (7)\НИЦШЕ (6)
НИЦШЕ (5)\НИЦШЕ (4)\НИЦШЕ (3)\НИЦШЕ (2)\НИЦШЕ
Воля к власти (0) Воля к власти (2) Воля к власти (3) Воля к власти (4) Воля к власти (5)
Воля к власти (6) Воля к власти (7) Воля к власти (8) Воля к власти (9) Воля к власти (10)
ФИЛОСОФИЯ \ ЭТИКА \ ЭСТЕТИКА \ ПСИХОЛОГИЯ
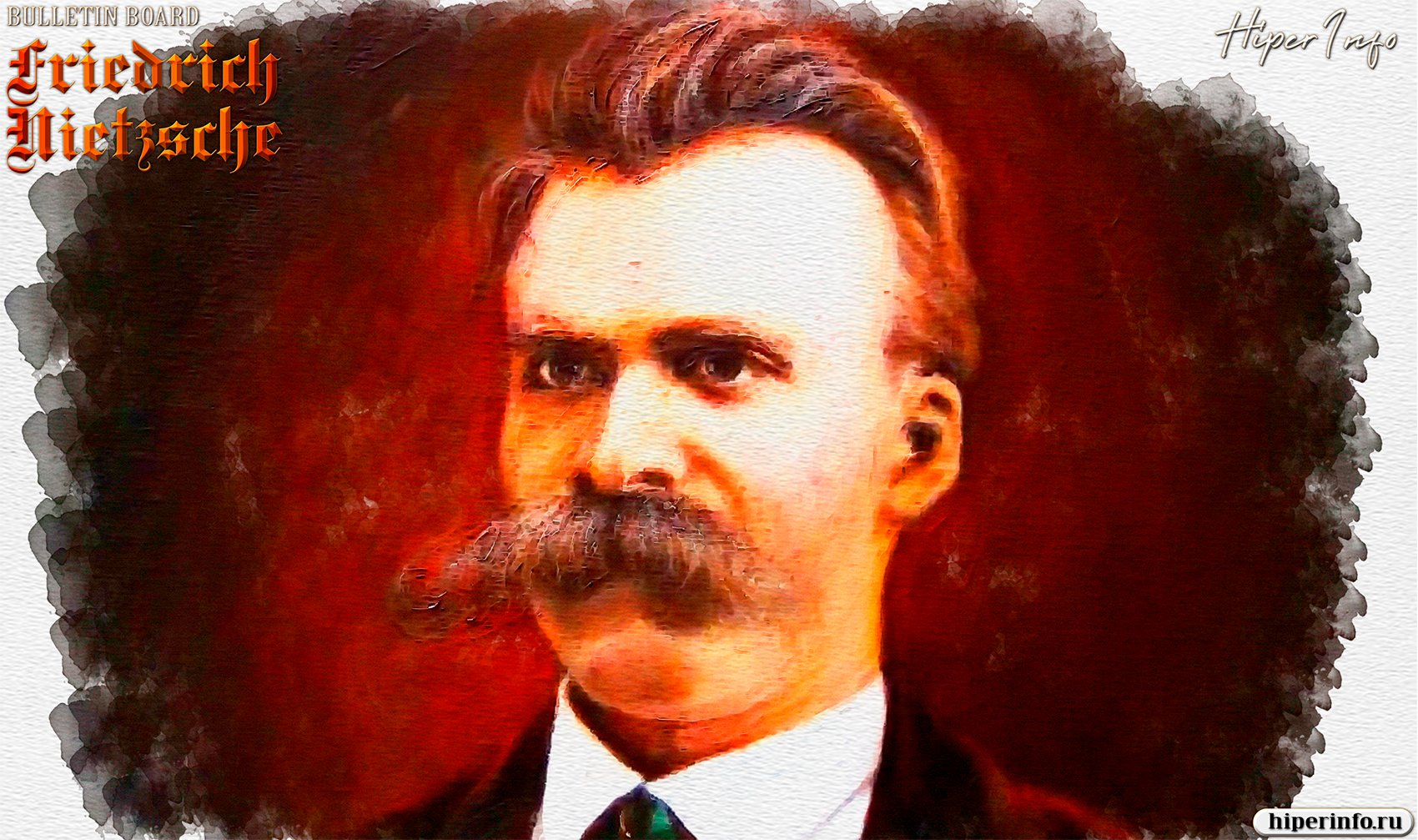
ГНОСЕОЛОГИЯ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) / ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ГРУППА / ГРУППОВОЕ / КОЛЛЕКТИВ / КОЛЛЕКТИВНОЕ / СОЦИАЛЬНЫЙ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХИКА / ПСИХИЧЕСКИЙ / ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ / ПСИХОАНАЛИЗ
РИТОРИКА \ КРАСНОРЕЧИЕ \ РИТОРИЧЕСКИЙ \ ОРАТОР \ ОРАТОРСКИЙ

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE / ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

НИЦШЕ / NIETZSCHE / ЕССЕ HOMO / ВОЛЯ К ВЛАСТИ / К ГЕНЕАЛОГИИ МОРАЛИ / СУМЕРКИ ИДОЛОВ /
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА / ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА / ЗЛАЯ МУДРОСТЬ / УТРЕННЯЯ ЗАРЯ /
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ / СТИХИ НИЦШЕ / РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ




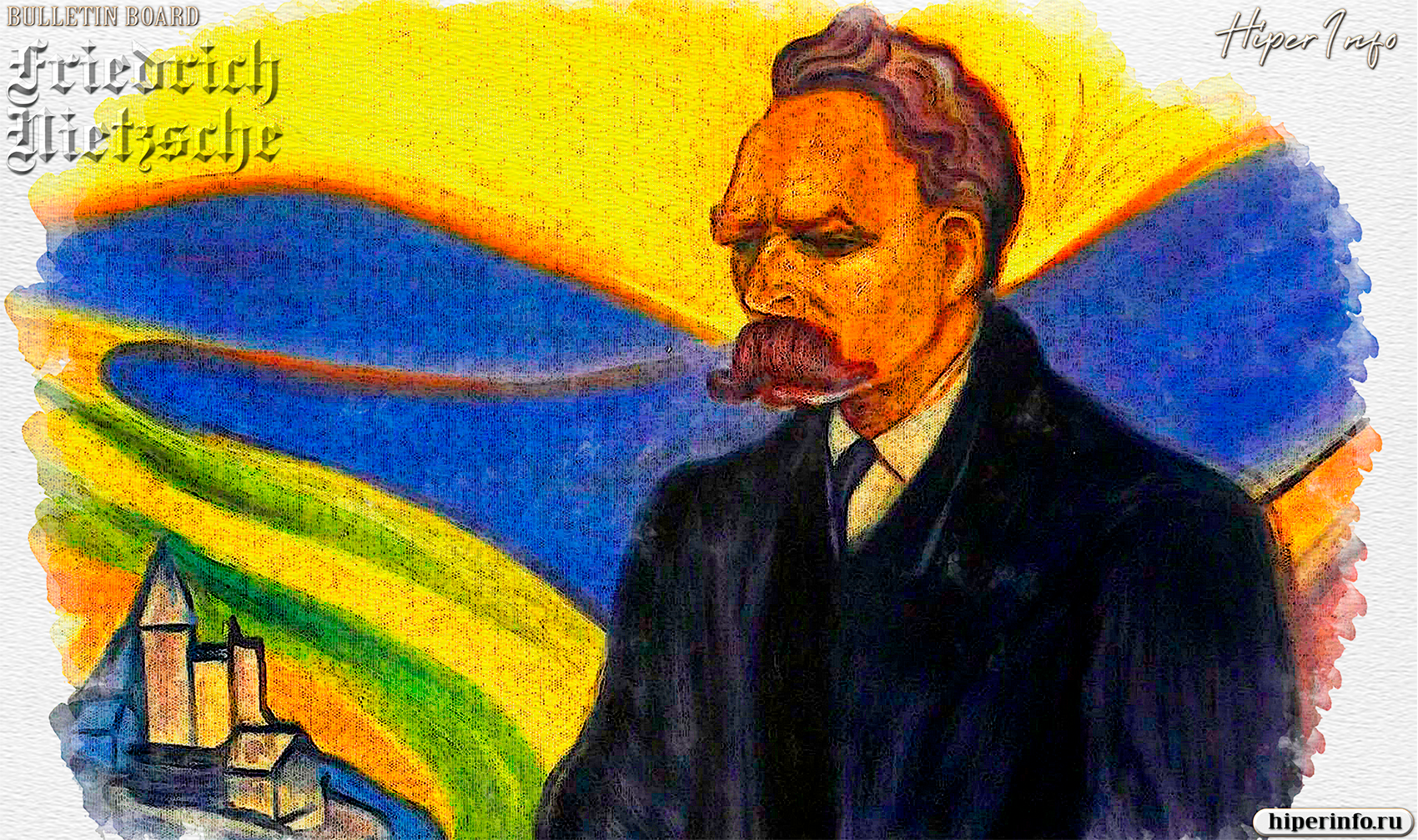




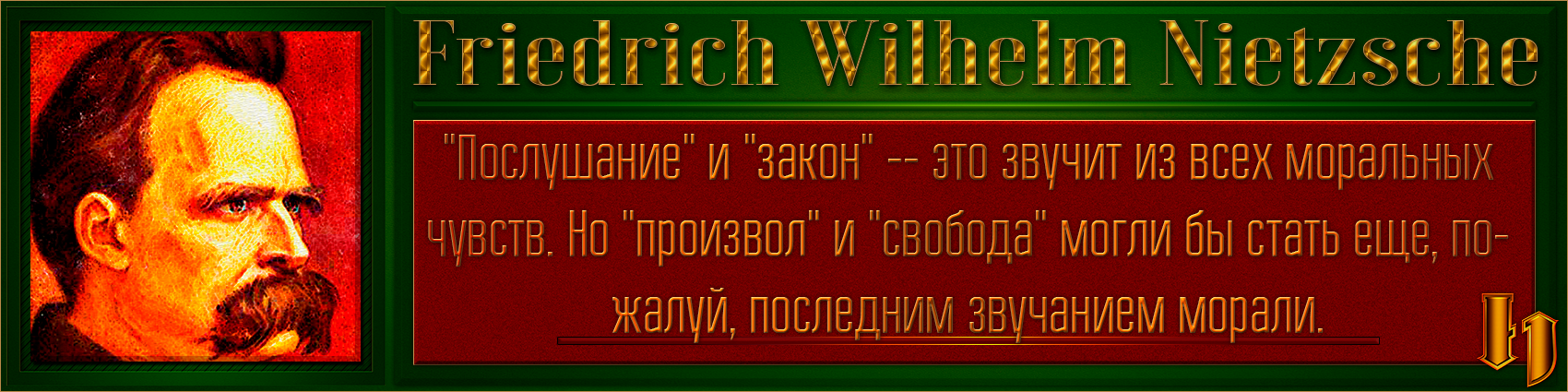


 Фридрих Вильгельм Ницше
Фридрих Вильгельм Ницше
ФРИДРИХ НИЦШЕ
ВОЛЯ К ВЛАСТИ
ОПЫТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВСЕХ ЦЕННОСТЕЙ

438 Борьба, предпринятая Эпикуром против «старой веры» была, строго говоря, борьбой против предшествовавшего христианства, борьбой против уже помрачённого, оморализованного, проквашенного чувством вины, обветшалого и больного древнего мира. Не «испорченность нравов» древности, но как раз оморализирование её было единственной предпосылкою победы христианства над древним миром. Нравственный фанатизм (короче, Платон) разрушил язычество, переоценив его ценности и отравив его невинность. Мы должны же наконец понять, что разрушенное стояло выше того, что победило! Христианство возникло из психологической извращённости, могло пустить корни лишь на испорченной почве. 439 Научность — как дрессировка или как инстинкт? Я вижу в греческих философах деградацию инстинктов. Иначе они не могли бы заблуждаться до такой степени, полагая состояние сознательности более ценным. Интенсивность сознания стоит в обратном отношении к лёгкости и быстроте церебральной передачи. Там господствовало обратное мнение об инстинктах, что всегда является признаком ослабления инстинктов. Действительно, жизнь полнее там, где она менее всего сознательна (т. е. где не выступают её логика, доводы, средства, намерение, её полезность). Возврат к фактическому bon sens [139] к bon homme [140] , к «Маленьким людям» всех родов. Справедливость и мудрость, накопленные в течение поколений, не сознающие своих принципов, обнаруживающие даже некоторый страх перед принципами. Требовать резонирующей добродетели — не резонно... Философ компрометирует себя подобным требованием. 440 Если, благодаря упражнению, в течение целого ряда поколений мораль как бы накопилась, а следовательно, накоплялась и утончённость, предусмотрительность, храбрость, добросовестность, то вся совокупная сила этой накопленной добродетели излучается также и в ту сферу, в которой справедливость реже всего проявляется — в сфере духовной. При всяком процессе сознания испытывается некоторое стеснение организма; нужно испробовать что-то новое, ничто в достаточной мере не подготовлено к этому, является чувство затруднения, напряжённости, повышенная раздражимость — всё это и есть осознание... Гений заложен в инстинкт, точно так же, как и доброта. Действуешь только тогда совершенно, когда действуешь инстинктивно. Также и с моральной точки зрения, всякое мышление, протекающее сознательно, — есть лишь некоторое нащупывание почвы, чаще всего нечто обратное морали. Научная честность служит вывеской, когда мыслитель начинает резонировать. Можно сделать опыт, взвесить мудрейших на чувствительнейших весах, заставив их высказываться о морали... Одно можно доказать — это то, что всякое мышление, протекающее сознательно, соответствует и гораздо более низкой ступени морали, чем мышление того же человека, когда оно управляется инстинктами. 441 Борьба против Сократа, Платона, против всех сократовских школ имеет в своей основе глубокое инстинктивное сознание, что человека нельзя сделать лучше, внушая ему, что добродетель есть нечто, подлежащее доказательству и требующее обоснования... В конце концов у них всё сводится к ничтожному факту, что инстинкт борьбы вынудил всех этих прирождённых диалектиков прославить свою личную склонность, как наивысшее её свойство, а прочие достоинства считать обусловленными ею. Антинаучный дух всей этой «философии»: она стремится оставаться во что бы то ни стало правой. 442 Это поразительно. В начальном периоде греческой философии мы наталкиваемся на борьбу против науки при помощи некоторой теории познания, или скепсиса — и ради чего? Всё в интересах морали... (Ненависть к физикам и врачам). Сократ, Аристипп, мегарийцы, циники, Эпикур, Пиррон, это — генеральный штурм познания во имя морали {278} (ненависть также и к диалектике). Проблема; они приближаются к софистам, чтобы отделаться от науки. С другой стороны, все физики настолько порабощены, что принимают в основы своего учения схему истины, истинного бытия, например: атом, четыре стихии (признание принципа постепенного нарастания сущего ради объяснения множественности и изменчивости). Учат презрению к объективности интереса: возврат к практическому интересу, личной полезности всякого познания... Борьба против науки направлена против: 1) её пафоса (объективности), 2) её средств (т. е. против её полезности), 3) её результатов (как имеющих детский характер). Эта же борьба позже ещё раз предпринята была церковью во имя благочестия, церковь унаследовала от древности весь её арсенал. Теория познания играет здесь такую же роль, как у Канта, как у индийцев... {279} Не желают никаких стеснений — желают, чтобы руки были развязаны для отыскания своего «пути». Против чего, собственно, они борются? Против обязательности, закономерности, необходимости идти рука об руку — они, по-видимому, называют это свободой. В этом находит своё выражение декаданс. Инстинкт солидарности настолько выродился, что солидарность ощущают как тиранию. Они не хотят никакого авторитета, никакой солидарности, никакого включения в строй с его неблагородной медленностью движений. Им ненавистен поступательный ход науки, им ненавистно нежелание прибыть к цели, выдержка, личный индифферентизм человека науки. 443 Мораль, в своей основе, враждебна науке: уже Сократ так настроен, и именно потому, что наука придаёт важное значение таким предметам, которые с «добром» и «злом» не имеют ничего общего и, следовательно, уменьшают значительность чувства «добра» и «зла». Ведь мораль хочет, чтобы к её услугам был весь человек и все его силы. Ей кажется расточительностью со стороны того, кто для расточительности недостаточно богат, если он серьёзно отдаётся растениям и звёздам. Поэтому с тех пор, как Сократ занёс в науку болезнь морализирования, научность в Греции быстро пошла под гору. Никто уже больше не поднимался на ту высоту, которой достигла мысль Демокрита, Гиппократа и Фукидида. 444 Проблема философа и учёного. Влияние возраста; привычки, действующие на психику угнетающе (домоседство à la Кант; переутомление; недостаточное питание мозга; чтение). Существеннее: не проявляется ли уже симптом декаданса в самой склонности к такой всеобщности; объективность как дисгрегация {280} воли (умение оставаться вдали...). Это предполагает безразличие по отношению к сильным влечениям (своего рода изоляция, исключительное положение, борьба с нормальными влечениями). Типичен разрыв с родиной, стремление всё в более широкие круги, растущий экзотизм, онемение старых императивов, в особенности этот постоянный вопрос «куда?» («счастье») служит признаком разрыва с организационными формами, перелома. Возникает вопрос, представляет ли учёный в большей мере симптом декаданса, чем философ? Как целое он не обособлен, только часть его исключительно посвящена познанию, вышколена для определённого угла зрения. Ему нужны, для его дела, все добродетели сильной, здоровой расы, большая строгость, мужество, мудрость. Он скорее симптом высокой многосторонности культуры, чем её усталости. Учёный декаданса — плохой учёный. Между тем как философ декаданса, по крайней мере до сих пор, слыл за типичного философа. 445 Ничто так редко не встречается в среде философов как интеллектуальная добросовестность. Возможно, что они утверждают как раз противоположное; вероятно они даже и убеждены в этом, но всё их ремесло обязывает их признавать только некоторые определённые истины. Они знают, что им нужно доказать. Они, пожалуй, и видят признак того, что они философы, в том, что сходятся относительно этих «истин». Таковы, например, моральные истины. Но вера в мораль ещё не доказательство морали. Бывают случаи — и философы представляют именно такой случай — когда подобная вера просто безнравственна. 446 В чём же проявляется отсталость философа? В том, что он принимает свои личные качества за необходимые и за единственно ведущие к достижению «высшего блага» (например, диалектика Платона). В том, что он располагает всякого рода людей по лестнице степеней, постепенно возвышающихся до его собственного типа, который он считает высшим. Что он считает маловажным то, что ценится другими, что роет пропасть между высшими жреческими ценностями и ценностями светскими. Что он знает, что такое истина, что такое Бог, что такое цель, что такое путь... Типичный философ здесь является абсолютным догматиком. Если он чувствует потребность в скепсисе, то лишь для того, чтобы приобрести право в самом главном для себя — говорить как догматик. 447 Философ в борьбе со своими соперниками, например, с наукой: тут он становится скептиком; тут он оставляет за собой право на такую форму познания, которая, по его мнению, недоступна учёному. Тут он идёт со жрецом рука об руку, чтобы не возбудить подозрения в атеизме, материализме. Всякое нападение на себя он считает нападением на мораль, на добродетель, религию и порядок. Он умеет дискредитировать своих противников как «соблазнителей» и «людей, ведущих подкопы», здесь он идёт рука об руку с властью. Философ в борьбе с другими философами: он старается вынудить их проявить себя в качестве анархистов, безбожников, противников авторитета. In summa: поскольку он борется, он борется во всём как жрец, как каста жрецов. [3. Истина и ложь философов] 448 Философия, определяемая Кантом как «наука о границах разума»!! 449 Философия есть искусство находить истину — так учит Аристотель {281}. Против этого восстают эпикурейцы, использовавшие для своих целей сенсуалистическую гносеологию Аристотеля; они относятся весьма иронически и отрицательно к поискам истины; «философия как искусство жизни». 450 Три великие наивности: — познание как путь к счастью (как будто...); — как путь к добродетели (как будто...); — как путь к «отрицанию жизни», поскольку оно есть путь к разочарованию (как будто...). 451 Как будто существует «истина», к которой можно было бы так или иначе приблизиться! 452 Заблуждение и незнание пагубны. Утверждение, что истина достигнута и что с незнанием и заблуждением покончено — это одно из величайших заблуждений, какие только могут быть. Допустим, что этому поверили, тогда тем самым была парализована воля к изысканию, исследованию, осторожности, испытанию. Сама эта воля может казаться кощунством, именно как сомнение в истине... «Истина», следовательно, пагубнее заблуждения и незнания, потому что сковывает силы, направленные на просвещение и познание {282}. А тут ещё аффект лени становится на сторону «истины» («Мышление — это страдание, несчастье»!); равным образом порядок, норма, счастье обладания, гордыня мудрости — всё это in summa суетное — удобнее повиноваться, чем исследовать; гораздо приятнее думать: «я обладаю истиной», — чем видеть вокруг себя один мрак. Прежде всего это успокаивает, даёт надежду, облегчает жизнь, это «улучшает» характер, поскольку уменьшается недоверие. «Душевный покой», «безмятежная совесть» — всё это изобретения, возможные только при условии, что истина существует. «По плодам их познаете их»... «Истина» — есть истина, ибо она делает людей лучше... И далее в том же духе — всё доброе, успешное заносится на счёт истины. Это служит показателем силы — счастье, довольство, общее и частное благосостояние принимается как результат веры в мораль... Напротив неудачный исход нужно приписывать недостатку веры. 453 Причины заблуждения кроются как в доброй воле человека, так и в дурной. Он в сотне случаев закрывает глаза на действительность, он фальсифицирует её, чтобы не страдать от своей доброй или дурной воли. Например, или судьбы человека направляются Богом, или жалкий жребий его находит своё объяснение в том, что это ниспослано и предопределено ради спасения души; такой недостаток «филологии», который для более тонкого интеллекта кажется некоторой неопрятностью мышления, фальшью, в общем есть результат влияния доброй воли. Добрая воля, «благородные чувства», «возвышенные состояния» в отношении употребляемых ими средств являются такими же фальшивомонетчиками и обманщиками, как и отвергаемые во имя морали и считающиеся эгоистическими аффекты любви, ненависти и мести. Ошибки — вот что человечеству обошлось дороже всего, и, в общем, ошибки, проистекавшие из «доброй воли», оказались более всего вредными. Заблуждение, которое делает счастливым, пагубнее, чем то, которое непосредственно вызывает дурные последствия. Последнее изощряет, делает недоверчивым, очищает разум; первое — усыпляет... Прекрасные чувства, возвышенные порывы принадлежат, говоря физиологически, к наркотическим средствам. Злоупотребление ими ведёт к тому же результату, что и злоупотребление любым другим опиумом — к нервной слабости... 454 Заблуждение — самая дорогая роскошь, какую человек может себе позволить; но когда заблуждение является к тому же, ещё и физиологическим заблуждением, то оно становится опасным для жизни. Что же, следовательно, дороже всего обошлось человечеству, за что больше всего оно расплачивалось? За свои «истины», потому что все они в то же время были заблуждениями in physiologicis [141] ... 455 Психологические смешения — потребность в вере смешивается с «волей к истине» (как, например, у Карлейля) {283}. Но точно так же смешивают потребность безверия с «волей к истине» (потребность разделаться с верой может вытекать из сотни побуждений — оказаться правым в опоре с каким-нибудь «верующим»). Что вдохновляет скептиков? Ненависть к догматикам — или потребность в покое, усталость, как у Пиррона. Выгоды, которых ожидали от истины, были выгодами, вытекающими из веры в неё. Ибо взятая сама в себе истина могла быть весьма мучительной, вредной, роковой. С другой стороны нападали на «истину», когда ждали от победы над ней известных выгод, например, свободы от господствующих властей. Методику истины выводили не из мотивов истины, а из мотивов власти, в стремлении к превосходству. Чем доказуется истина? Чувством повышенной власти, полезностью, неизбежностью, одним словом, выгодами, (т. е. предпосылками о том, какова должна быть истина, чтобы она пользовалась нашим признанием). Но это — предрассудок, признак того, что речь идёт вовсе не об истине. Какое значение имеет, например, «воля к истине» у Гонкуров {284}? У натуралистов {285}? Критика «объективности». Для чего познавать, не лучше ли заблуждаться?.. Желали всегда веры, а не истины. Вера создаётся при помощи совершенно иных, противоположных средств, нежели методика исследования, первая даже исключает последнюю. 456 Наличность известной степени веры является, в наших глазах, теперь доводом против того, во что веруешь — ещё более для знака вопроса относительно душевного здоровья верующего. 457 Мученики. Для преодоления всего того, что зиждется на благоговении, требуется со стороны нападающего дерзновенный, отчаянный, даже бесстыдный образ мысли... Если же принять ещё во внимание, что человечество в течение тысячелетий освящало только заблуждения в качестве истин, что всякую критику первых клеймили как признак дурного образа мысли, то приходится с сожалением признать, что нужна была изрядная доза имморальности, чтобы взять на себя инициативу нападения, то есть разумения... Да простится этим имморалистам, что они разыгрывали из себя «мучеников истины». Истина в том, что ими руководило не влечение к истине, но инстинкт разрушения, дерзновенный скепсис, страсть к приключениям — вот из каких влечений вытекало их отрицание. В других случаях личная ненависть увлекала их в сферу проблем. Они ополчались против проблем, чтобы одержать верх над лицами. Но прежде всего научно-полезной стала месть, месть угнетённых, то есть тех, которые господствующей истиной были оттеснены в сторону и даже угнетены... Истина, я хочу сказать — научная методика, была усвоена и двинута вперёд теми, которые угадали в ней средство борьбы, орудие истребления... Но чтобы придать своим нападениям благовидный характер, они пускают в ход аппарат, заимствованный у тех, на кого они нападали. Они афишируют понятие «истины», придавая ей столь же абсолютное значение, как и их противники. Они становятся фанатиками или, по крайней мере, принимают соответственную позу, ибо всякой другой позе не придавалось серьёзного значения. Всё прочее довершает уже преследование, страстность, шаткое положение преследуемого. Ненависть росла и обусловила невозможность удержаться на почве науки. Они все в конце концов стремились одержать верх таким же нелепым способом, как и их противники... Слова — «убеждение», «вера», гордость мученичества, всё это — состояния, неблагоприятные познанию. Противники истины в конце концов усвоили сами, в своём решении вопроса об истине, субъективную манеру во всём её объёме, с её позировкой, жертвами, ироническими решениями, то есть продлили господство антинаучных методов. Как мученики они компрометировали своё собственное дело. 458 Опасное разграничение «теоретического» и «практического», — например, у Канта, а также у древних. Они делают вид, словно чистый дух ставит перед ними проблему познания и метафизики, они делают вид, словно к практике прилагаются свои оценки, независимые от ответа, даваемого теорией. Против первого утверждения выдвигаю я мою психологию философов: их отвлеченнейшие соображения и их «духовность» являются всё-таки только последним бледным отпечатком некоторого физиологического факта; здесь абсолютно отсутствует свободная воля, всё — инстинкт, всё заранее направлено по определённому пути... Относительно второго я ставлю следующий вопрос: для того, чтобы правильно действовать, знаем ли мы какой-либо другой метод, кроме правильного мышления? Последнее есть уже действие, а первое предполагает мышление. Имеем ли мы возможность судить о ценности известного образа жизни каким-либо иным способом, чем мы судим о ценности теории, т. е. при помощи индукции, сравнения? Наивные люди верят, что тут дело обстоит для нас лучше, что в этом случае мы знаем, что такое «добро». Философы вторят этому. Мы приходим к заключению, что здесь налицо только вера и ничего больше... «Нужно действовать, следовательно, нужна руководящая нить» — говорили сами древние скептики. Настоятельная необходимость в том или ином решении берётся как аргумент для признания здесь чего-либо истинным. «Не надо действовать» {286} — говорили их более последовательные братья-буддисты, и изобрели руководящую нить, указующую, как избавиться от действия... Ввести себя в норму, жить как живёт «простой смертный», считать справедливым и хорошим то, что он считает справедливым — это будет подчинением стадным инстинктам. Нужно дойти в своей отваге и строгости до того, чтобы ощущать такое подчинение как позор. Не мерить двойной мерой!.. Не отделять теории от практики!.. 459 Ничто из того, что когда-то сходило за истину, не есть истина. Всё, что некогда презирали как нечто нечестивое, запретное, презренное, пагубное — все эти цветы растут теперь на прелестных тропинках истины. Вся эта старая мораль уже не касается нас больше. Здесь нет ни одного понятия, которое заслуживало бы ещё нашего уважения. Мы пережили все эти понятия, мы уже не так грубы и наивны, чтобы давать себя таким путём ввести в обман. Говоря более любезно, мы слишком добродетельны для этого... И если истина в старом смысле потому только и была «истиной», что старая мораль говорила ей «да», могла говорить ей «да», то из этого следует, что нам вообще не нужна более никакая истина старого времени... Нашим критерием истины ни в каком случае не является моральность. Мы опровергаем какое-либо её утверждение, доказывая его зависимость от морали или что оно внушено благородными чувствами. 460 Все эти ценности эмпиричны и условны. Но тот, кто в них верит, кто их чтит, не желает признавать за ними этого их характера. Философы все верят в эти ценности, и одна из форм их почитания выразилась в старании сделать их истинами a priori... Фальсифицирующий характер этого благоговения. Благоговение есть высокая проба интеллектуальной добросовестности. Но во всей истории философии нельзя найти никакой интеллектуальной добросовестности, а только «любовь к добру»... Абсолютный недостаток метода для проверки ценности этих ценностей. Во-вторых: нежелание проверки этих ценностей и вообще условного их понимания. Когда дело шло о моральных ценностях, все антинаучные инстинкты соединились в целях исключения научности... [4. Заключительные размышления к критике философии] 461 Почему философы — клеветники? Коварная и слепая ненависть философов к внешним чувствам. Сколько плебейства и мещанства во всей этой ненависти! Народ всегда считает известное злоупотребление, имевшее для него дурные последствия, доводом против того, что было предметом злоупотребления. Совершенно так же аргументируют и все мятежные движения, направленные против принципов как в политике, так и в хозяйстве, в молчаливом предположении, что данный abusus [142] необходимо присущ принципу. Это — грустная история: человек ищет принципа, на основании которого он мог бы презирать человека; он изобретает новый мир, чтобы иметь возможность оклеветать и очернить этот мир. В действительности же он каждый раз хватается за ничто и создаёт из этого ничто «Бога», «истину», и во всяком случае судью и карателя этого бытия. Если угодно найти подтверждение тому, насколько глубоко и сильно жаждут удовлетворения чисто варварские потребности человека даже в приручённом «цивилизованном» его состоянии, то стоит лишь обозреть «лейтмотивы» всего философского развития: тут какая-то месть по отношению к действительности, коварно-злобное разрушение мира оценок, в котором человек живёт, неудовлетворённость души, для которой приручённое состояние — пытка, и которая находит сладострастное наслаждение в болезненном расторжении всех связывающих её уз. История философии — это скрытая ярость против основных предпосылок жизни, против чувств, ценности жизни, против всего, что становится на сторону жизни. Философы никогда не останавливались перед утверждением какого-либо мира, раз только этот мир противоречит данному миру и даёт указания для осуждения этого мира. То была до сих пор великая школа злословия, и она так сильно импонировала, что и теперь ещё наша наука, выдающая себя за заступницу жизни, принимает основное положение этой клеветы и рассматривает этот мир как что-то кажущееся, эту цепь причин как нечто исключительно феноменальное. Что, собственно, ненавидят здесь? Я боюсь, что постоянная Цирцея {287} философов — мораль, сыграла с ними эту злую шутку и обрекла вечно оставаться клеветниками... Они верили в моральные «истины», в них они всегда находили высшие ценности — что же им оставалось более, как только по мере того, как они постигали бытие, в той же мере говорить ему «нет»? Ибо это существование неморальное... И эта жизнь покоится на неморальных предпосылках; и всякая мораль отрицает жизнь. Упраздним же этот «истинный мир», а чтобы иметь возможность сделать это, мы должны упразднить прежние высшие ценности, мораль... Достаточно доказать, что и мораль неморальна в том именно смысле, в каком до сих пор осуждалось всё неморальное. Если, таким образом, тирания прежних ценностей будет сломлена, если будет упразднён и «истинный мир», то сам собой возникнет новый строй ценностей. Видимый мир и измышленный мир — вот в чём противоречие. Последний до сих пор назывался «истинным миром», «истиной», «божеством». Его нам следует упразднить. Логика моей концепции: 1) Мораль как высшая ценность (госпожа над всеми фазами философии, даже скептической). Результат: этот мир никуда не годен. Он не есть «истинный мир». 2) Что определяет в этом случае высшую ценность? Что собственно представляет мораль? — Инстинкт декаданса; здесь истомлённые и обойдённые мстят этим способом за себя. Исторический довод: философы постоянно были декадентами... на службе нигилистических религий. 3) Инстинкт декаданса, выступающий как воля к власти. Доказательство: абсолютная неморальность средств на протяжении всей истории морали. Общий вывод — прежние высшие ценности суть частный случай воли к власти, сама мораль есть частный случай неморальности. 462 [Принципиальные нововведения.] На место «моральных ценностей» — исключительно натуралистические ценности. Натурализация морали. Вместо «социологии» — учение о формах и образах господства. Вместо «общества» — культурный комплекс — как предмет моего главного интереса (как бы некоторое целое, соотносительное в своих частях). Вместо «теории познания» — перспективное учение об аффектах (для чего необходима иерархия аффектов: преобразованные аффекты, их высший порядок, их «духовность»). Вместо «метафизики» и религии — учение о вечном возвращении (в качестве средства воспитания и отбора). 463 Мои предтечи — Шопенгауэр: поскольку я углубил пессимизм и лишь путём установления его крайней противоположности прочувствовал его до конца. Затем — идеальные художники: их прорастание из бонапартистского движения. Затем — высшие европейцы, предвестники великой политики. Затем — греки и их возникновение. 464 Я назвал моих бессознательных сотрудников и предтеч. Но где должен я, с некоторой надеждой на успех, искать философов в моём вкусе или, по крайней мере, подобную моей потребность в новых философах? Только там, где господствует аристократический образ мысли, т. е. такой образ мысли, который верит в рабство и различные степени зависимости как в основное условие высшей культуры; там, где господствует творческий образ мысли, который ставит миру в качестве цели не счастье покоя, не «субботу суббот» {288}, который даже мир чтит лишь как средство к новым войнам; образ мысли, который предписывает законы грядущему, который во имя грядущего жестоко, тиранически обращается с самим собой и со всём современным; не знающий колебаний, «неморальный» образ мысли, который стремится воспитать и взрастить как хорошие, так и дурные свойства человека, ибо он верит в свою мощь, верит, что она сумеет поставить и те и другие на надлежащее место — на место, где они будут равно нужны друг другу. Но тот, кто теперь ищет философов в этом смысле, какие виды может он иметь найти то, что ищет? Не очевидно ли, что в этих поисках он, вооружившись даже наилучшим диогеновским фонарём, понапрасну будет блуждать день и ночь? Наш век есть век обратных инстинктов. Он хочет, прежде всего и раньше всего, удобства; во-вторых, он хочет гласности и большого театрального шума, того оглушительного барабанного боя, который соответствует его базарным вкусам; он хочет, в-третьих, чтобы каждый с глубокой покорностью лежал на брюхе перед величайшей ложью, которая называется равенством людей и уважал только уравнивающие и нивелирующие добродетели. Но тем самым он в корне враждебен возникновению философа, как я его понимаю, хотя бы в простоте сердечной он и полагал, что способствует появлению такового. Действительно, весь мир плачется теперь по поводу того, как плохо приходилось прежде философам, поставленным между костром, дурной совестью и притязательной мудростью отцов церкви. На самом же деле, как раз тут-то и были даны сравнительно более благоприятные условия для развития могучего, широкого, хитрого, дерзновенно-отважного духа, чем условия современности. В настоящее время имеются сравнительно более благоприятные условия для зарождения другого духа, духа демагогии, духа театральности, а может быть также и духа бобров и муравьёв, живущего в учёном, но зато тем хуже обстоит дело по отношению к высшим художникам: не погибают ли они почти все благодаря отсутствию внутренней дисциплины? Извне они больше не испытывают тирании абсолютных скрижалей ценностей, установленных церковью или двором: и вот они не умеют более воспитывать в себе «своего внутреннего тирана» — своей воли. И то, что можно сказать о художниках, можно в ещё более высоком и роковом смысле сказать о философах. Где же теперь свободные духом? Покажите мне в наши дни свободного духом! 465 Под «свободой духа» я понимаю нечто весьма определённое: в сто раз превосходить философов и других учеников «истины» в строгости к самому себе, в честности и мужественности, в безусловной воле говорить «нет» там, где это «нет» опасно. Я отношусь к бывшим доселе философам, как к презренным libertins [143] , нарядившимся в капюшон женщины — «истины». Книга третья. Принцип новой оценки I. Воля к власти как познание [144] [a) Метод исследования] 466 Не победа науки является отличительной чертой нашего XIX века, но победа научного метода над наукой. 467 История научного метода почти отождествляется Огюстом Контом с самой философией. 468 Великие методологи: Аристотель, Бэкон, Декарт, Огюст Конт {289}. 469 Наиболее ценные открытия делаются позднее всего: наиболее же ценные открытия — это методы. Все методы, все предпосылки нашей современной науки встречали в течение тысячелетий глубочайшее презрение; сторонники таковых исключались из общения с порядочными людьми, считались «врагами Бога», отрицателями высшего идеала, «одержимыми бесом». Против нас был направлен весь пафос человечества; наше представление о том, чем должна быть «истина», в чём должно заключаться служение истине, наша объективность, наш метод, наши спокойные, осторожные, недоверчивые приёмы были в полном презрении... В сущности дольше всего мешал человечеству некоторый эстетический вкус: оно верило в живописный эффект истины, оно требовало от познающего, чтобы тот сильно действовал на фантазию. Может показаться, будто мы являем собой некоторую противоположность, будто нами сделан скачок: на самом же деле привычка к обращению с моральными гиперболами подготовила шаг за шагом тот пафос более умеренного свойства, который воплотился в виде научного мышления. Добросовестность в мелочах, самоконтроль религиозного человека послужили подготовительной школой в деле образования научного мышления: и прежде всего образ мыслей, который серьёзно относится к проблемам, независимо от результатов, которые могут получиться лично для исследователя... [b) Теоретико-познавательный отправной пункт] 470 Глубокое отвращение к тому, чтобы раз навсегда успокоиться на каком-нибудь одном широком миропонимании. Соблазнительность противоположного способа мыслить: не допускать лишить себя привлекательности энигматического {290} характера. 471 Предположение, что в основе вещей всё совершается настолько морально, что всегда бывает прав человеческий разум — есть простодушное предположение честных простых людей, следствие их веры в божественную нелживость {291} — Бог, понимаемый как творец вещей. Понятия как наследие какого-либо потустороннего предсуществования {292}. 472 Отрицание так называемых «фактов сознания». Наблюдение в тысячу раз труднее, заблуждение является, быть может, вообще необходимым условием наблюдения. 473 Интеллект не может критиковать сам себя, именно потому, что мы не имеем возможности сравнивать его с иновидными интеллектами, и потому, что его способность познавать могла бы проявиться лишь по отношению к «истинной действительности», т. е. потому, что для критики интеллекта нам нужно было бы быть высшими существами с «абсолютным познанием». Это предполагало бы уже, что, помимо всяких перспективных способов рассмотрения и чувственно-духовного усвоения, существует ещё нечто, некая «вещь в себе». Но психологическая дедукция веры в вещи не позволяет нам говорить о «вещах в себе». 474 Что между субъектом и объектом существует некоторого рода адекватное отношение; что объект есть нечто такое, что, рассматриваемое изнутри, является субъектом, это есть простодушное открытие, которое, как я думаю, уже отжило своё время. Мера того, что вообще доходит до нашего сознания, находится в полнейшей зависимости от грубой полезности осознания: как могла бы эта столь узкая перспектива сознания позволить нам высказать о «субъекте» и «объекте» что-либо, что затрагивало бы реальность! 475 Критика новейшей философии: ошибочность отправного пункта, будто существуют «факты сознания» — будто в области самонаблюдения нет места феноменализму. 476 «Сознание» — в какой степени кажутся поверхностными представляемое представление, представляемая воля, представляемое чувство (единственное нам известное)! Наш внутренний мир также «явление»! 477 Я утверждаю феноменальность также и внутреннего мира: всё, что является в нашем сознании, с самого начала во всех подробностях прилажено, упрощено, схематизировано, истолковано, — действительный процесс внутреннего «восприятия», причинная связь мыслей, чувств, желаний, связь между субъектом и объектом абсолютно скрыта от нас и, быть может, есть только наше воображение. Этот «кажущийся внутренний мир» обработан совершенно в тех же формах и теми же способами, как и «внешний» мир. Мы нигде не наталкиваемся «на факты»; удовольствие и неудовольствие суть позднейшие и производные феномены интеллекта... «Истинная причинность» не даётся нам в руки: предположение непосредственной причиной связи между мыслями в той форме, как его делает логика, есть следствие наигрубейшего и в высшей степени неуклюжего наблюдения. Между двумя мыслями ещё имеет место игра всевозможных аффектов, но движения слишком быстры; поэтому мы не замечаем их; отрицаем их наличность... «Мышление», как его себе представляют теоретики познания, не имеет места вовсе; это — совершенно произвольная фикция, достигаемая выделением одного элемента из процесса и исключением всех остальных, искусственное приспособление в целях большей понятности... «Дух», нечто, что думает или, пожалуй, даже «дух абсолютный, чистый, pur [145] » — вся эта концепция есть производное, вторичное следствие ложного самонаблюдения, верящего в «мышление»: здесь, во-первых, изобретён акт, которого на самом деле не бывает — «мышление», и, во-вторых, придуман субъект — субстрат, являющийся источником каждого из актов этого мышления и только их; это значит, что как действие, так и деятель выдуманы.

МИФОЛОГИЯ






| ГОМЕР | ИЛИАДА | ОДИССЕЯ | ЗОЛОТОЕ РУНО | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ |

| РОБЕРТ ГРЕЙВС. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ И ЕГО ЖЕНА МЕССАЛИНА |

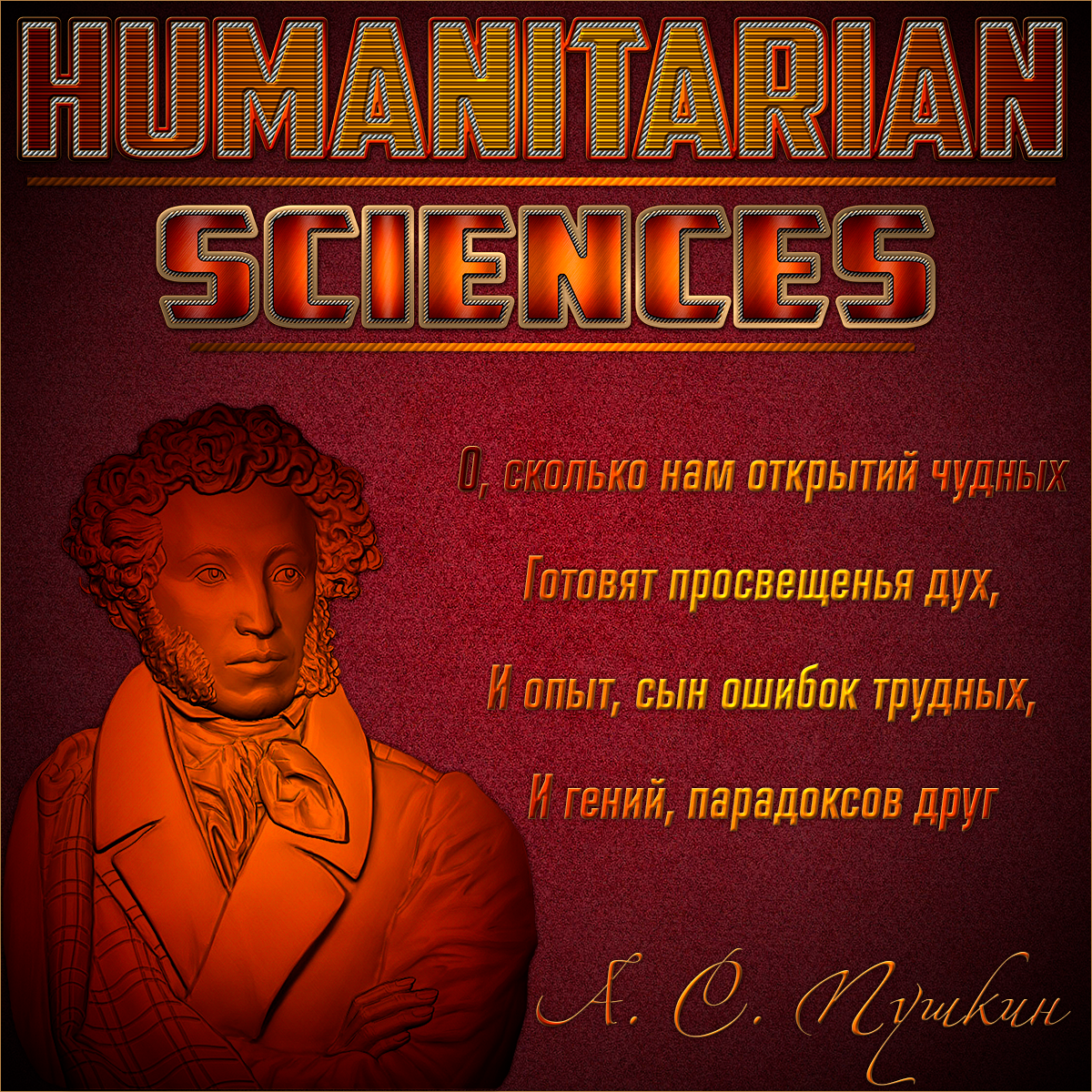











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ




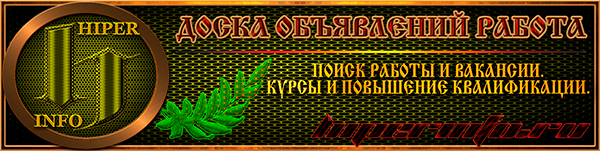

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.