- 100344 Просмотра
- Обсудить


БЕСЕДА | БЕСЕДА (1) | БЕСЕДА (2) | ЭРИХ ФРОММ БЕСЕДА | РИТОРИКА (10) | РИТОРИКА (9) | РИТОРИКА (8)
РИТОРИКА (7) | РИТОРИКА (6) | РИТОРИКА (5) | РИТОРИКА (4) | РИТОРИКА (3) | РИТОРИКА (2) | РИТОРИКА (1)


ФИЛОСОФИЯ | ЭТИКА | ЭСТЕТИКА | ПСИХОАНАЛИЗ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХИКА | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | РАЗУМ
РИТОРИКА | КРАСНОРЕЧИЕ | РИТОРИЧЕСКИЙ | ОРАТОР | ОРАТОРСКИЙ | СЛЕНГ | ФЕНЯ | ЖАРГОН | АРГО | РЕЧЬ ( 1 )

МИФ | МИФОЛОГИЯ | МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА ( 1 ) | ЦИЦЕРОН ( 1 ) | ВОЛЯ | МЕРА | ЧУВСТВО
ФИЛОСОФ | ПСИХОЛОГ | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ | ФРЕЙД | ЮНГ | ФРОММ | РУБИНШТЕЙН | НИЦШЕ | СОЛОВЬЕВ

РОБЕРТ ГРЕЙВС. МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ГОМЕР. ИЛИАДА / ОДИССЕЯ | ПЛУТАРХ | ЦИЦЕРОН | СОКРАТ | ЛОСЕВ
ГРУППА | ГРУППОВОЕ | КОЛЛЕКТИВ | КОЛЛЕКТИВНОЕ | СОЦИАЛЬНЫЙ | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ | СЕНЕКА | ХАРАКТЕР


ПСИХИКА | ПСИХИЧЕСКИЙ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | ПСИХОАНАЛИЗ | ЛЮБОВЬ | ПРАВО | ДОЛЖНОЕ
ТРОП | СРАВНЕНИЕ | ЭПИТЕТ | ГИПЕРБОЛА | МЕТАФОРА | ИРОНИЯ | ОКСИМОРОН | СИНЕКДОХА | ЯЗЫК | ТЕМПЕРАМЕНТ


ЛЮБОВЬ | ВЛАСТЬ | ВЕРА | ОБЛАДАНИЕ И БЫТИЕ | НИЦШЕ \ ЛОСЕВ \ СОЛОВЬЕВ \ ШЕКСПИР \ ГЕТЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 | ПОНЯТИЕ (1) (10) (6) (2) (7) (5) (9)(3)(4) (8)





РИТОРИКА (7) | РИТОРИКА (6) | РИТОРИКА (5) | РИТОРИКА (4) | РИТОРИКА (3) | РИТОРИКА (2) | РИТОРИКА (1)


ФИЛОСОФИЯ | ЭТИКА | ЭСТЕТИКА | ПСИХОАНАЛИЗ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХИКА | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | РАЗУМ
РИТОРИКА | КРАСНОРЕЧИЕ | РИТОРИЧЕСКИЙ | ОРАТОР | ОРАТОРСКИЙ | СЛЕНГ | ФЕНЯ | ЖАРГОН | АРГО | РЕЧЬ ( 1 )

МИФ | МИФОЛОГИЯ | МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА ( 1 ) | ЦИЦЕРОН ( 1 ) | ВОЛЯ | МЕРА | ЧУВСТВО
ФИЛОСОФ | ПСИХОЛОГ | ПОЭТ | ПИСАТЕЛЬ | ФРЕЙД | ЮНГ | ФРОММ | РУБИНШТЕЙН | НИЦШЕ | СОЛОВЬЕВ

РОБЕРТ ГРЕЙВС. МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ГОМЕР. ИЛИАДА / ОДИССЕЯ | ПЛУТАРХ | ЦИЦЕРОН | СОКРАТ | ЛОСЕВ
ГРУППА | ГРУППОВОЕ | КОЛЛЕКТИВ | КОЛЛЕКТИВНОЕ | СОЦИАЛЬНЫЙ | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ | СЕНЕКА | ХАРАКТЕР


ПСИХИКА | ПСИХИЧЕСКИЙ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | ПСИХОАНАЛИЗ | ЛЮБОВЬ | ПРАВО | ДОЛЖНОЕ
ТРОП | СРАВНЕНИЕ | ЭПИТЕТ | ГИПЕРБОЛА | МЕТАФОРА | ИРОНИЯ | ОКСИМОРОН | СИНЕКДОХА | ЯЗЫК | ТЕМПЕРАМЕНТ


ЛЮБОВЬ | ВЛАСТЬ | ВЕРА | ОБЛАДАНИЕ И БЫТИЕ | НИЦШЕ \ ЛОСЕВ \ СОЛОВЬЕВ \ ШЕКСПИР \ ГЕТЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 | ПОНЯТИЕ (1) (10) (6) (2) (7) (5) (9)(3)(4) (8)





 ПЕРВЫЙ РАЗ НА ЭСТРАДЕ | СИЛА И МУДРОСТЬ СЛОВА
ПЕРВЫЙ РАЗ НА ЭСТРАДЕ | СИЛА И МУДРОСТЬ СЛОВАВ первую секунду я усомнился, могу ли я подписать такую бумагу, но Иван Иванович, тут же предложив перейти с ним на "ты", быстро меня убедил.
- Важно, чтоб ты написал толковое заявление и поступил в филармонию, - горячо сказал он.- А тебе хочется написать дурацкое заявление и не поступить в филармонию! Учись формулировать мысли!
Я подмахнул этот текст и был зачислен в должность второго лектора с испытательным сроком в две недели.
Исполнились все мои мечты! Но я не был счастлив! Чем ближе становился день моего дебюта, тем я все более волновался. Дело дошло, наконец, до того, что пришлось обратиться к известному гипнотизеру, некоему Ивану Яковлевичу. Рассказывали, что он замечательно излечивает артистов от боязни пространства. Что будто бы один из Онегиных, страдая агарофобией, опасался упасть во время спектакля в оркестр, пятился назад и опрокидывал декорации. И только один раз беседовал с ним мудрый доктор, как на следующем спектакле партнеры уже держали Онегина за фалды, дабы он не сиганул в оркестр и, боже упаси, не убил бы кого, ибо нигде не хотел петь, кроме как за суфлерской будкой!
Я написал и вызубрил наизусть свое будущее десятиминутное слово – я должен был говорить о Первой, до-минорной, симфонии Танеева - и пошел к доктору. Коль скоро оп был в кабинете одни и составлял примерно половину аудитории, перед которой я способен был говорить не смущаясь, я сумел кое-как произнести этот текст. Говорил я очень коряво, все время, помню, запивался, забывал, повторял, извинялся, смеялся неизвестно чему, потирал руки. Но все-таки до конца добраться мне удалось - ведь я знал этот текст наизусть, как стишки. И доктор сказал, что в целом ему мое слово очень понравилось. Понравилось потому, что он понял, на какую тему я собрался говорить. Он не скрыл, что десятиминутный текст я произносил более получаса и внешне это выглядело очень непрезентабельно: я все время почесывался, облизывался, хохотал, кланялся и при этом отступал все время назад, так что он, доктор, должен был несколько раз возвращать меня из угла на исходную точку. Но больше всего его поразило, что, с трудом произнося заученные слова, я помогал себе какими-то странными движениями левой ноги - тряс ею, вертел, потирал носком ботинка другую ногу, а то начинал стучать ногой в пол... Доктор сказал, что все это называется нервной распущенностью, что надо только следить за собой... Правда, есть и другие признаки, когда человек очень взволнован и устранить которые не в его власти.
- Горят уши,- сказал он,- сохнет во рту, на шее появляются пятна. Но ведь это же никому не мешает. Все поймут, что выступаете вы в первый раз, и охотно вам это волнение простят. Конечно, если я проведу с вами сеанс гипноза, вы будете выступать спокойнее, но зато еще больше будете волноваться перед вторым выступлением в уверенности, что сумеете преодолевать страх только под влиянием гипноза... Но... вы понимаете сами...
И он несколько поуспокоил меня.
Однако все это касалось формы моего выступления. А содержание беспокоило меня еще больше. Надо было получить одобрение Ивана Ивановича, ведь он был мой начальник, вдохновитель и поручитель. Но посоветоваться с ним все как-то не удавалось. Поймаю его в филармонии, говорю:
- Иван Иванович, ты не можешь послушать меня?
- Да, да, непременно, с большим интересом, но несколько позже того!
А чего же "того"? Когда уже афиши расклеены!
Наконец, я уловил его на хорах во время утренней репетиции и быстро произнес первые твердо выученные фразы будущего моего слова. Иван Иванович послушал с напряженной и недоумевающей улыбкой, перебил меня и торопливо заговорил:
- Великолепно! Грандиозно! ПотрясающеВысокохудожественноНаучно-популярно! И даже еще более того! Но, к сожалению, все это абсолютно никуда не годится... Ты придумал вступительное слово, смысл которого непонятен прежде всего самому тебе. Поэтому все эти рассуждения о ладах, секвенциях и модуляциях надобно выкинуть, а назавтра сочинять что-нибудь попроще и поумнее. Прежде всего ты должен ясно представлять себе: ты выйдешь на эстраду филармонии, и перед тобой будут сидеть представители различных контингентов нашего советского общества. С одной стороны будут сидеть академики, а с другой - госиздатовские клерки, подобные самому тебе. С той стороны тебя будут слушать рабочие гигантов-предприятий, рабочие, которые долгие годы посещают филармонию, знают музыку, отлично в ней разбираются, с другой - студенты первого курса консерватории, которые полагают, что они на музыке собаку съели, тогда как они только еще приступают к этой закуске. Всем этим лицам надо будет сообщить нечто такое, что всеми было бы понято в равной степени, независимо от их музыкальной подготовленности. И я думаю, что если ты пожелаешь для начала сообщить, что Танеев не представляет собою плод твоей раздраженной беллетристической фантазии, а в свое время, как и все люди, родился от отца с матерью и что это произошло в 1856 году, то уже сегодня могу заверить тебя, что завтра решительно все поймут тебя одинаково, а именно, что Сергей Иванович Танеев родился в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году и, следовательно, не мог уже родиться ни в пятьдесят седьмом, ни в пятьдесят восьмом, ни в пятьдесят девятом, этсетера, и т.д., и т.п., и проч. Если в конце своего выступления ты пожелаешь сообщить, что Танеев не состоит членом Союза композиторов только по той причине, что отошел в лучший из миров еще в 1915 году, то это будет крайне с твоей стороны любезно. Таким образом, ты забил два столба. Теперь натягивай веревку и двигайся от начала к концу. Сообщи по пути, что Танеев не кастрюли паял, а в свое время писал музыку, в том числе ту самую симфонию, которую вы, почтенные граждане, сейчас услышите,- Первую, принадлежащую к лучшим творениям русской симфонической классики. Если же ты при этом сумеешь ввернуть, что Танеев был любимым учеником и ближайшим другом нашего прославленного Петра Ильича Чайковского, что лучшие страницы танеевской музыки в чем-то перекликаются с героикой бетховенских симфонических концепций, то это будет крайне полезно тебе. Думаю, по этой канве мог бы произнести слово любой идиот. И я не беспокоюсь, что ты не сможешь этого сказать!.. Но меня возмутило другое. Зачем ты выучил свой текст наизусть, когда тебя взяли затем, чтобы ты не учил наизусть! Это не по-товарищески я даже отчасти подловато. Нам нужна свободно льющаяся речь, живая, эмоциональная... Когда я увидел эти растаращенные глаза, сухой рот, из которого ничего не вылетает, кроме шумного дыхания, эти чудовищные облизывания, я понял, что мы совершили большую ошибку. Неужели ты не понимаешь, что в таком виде ты никому не нужен? От тебя ожидают той непосредственности, с какой ты рассказываешь свои опусы в редакциях и в салонах своих литературных друзей. Если ты думаешь, что тебя назначат назавтра ректором Ленинградской консерватории, то ты жестоко ошибся: место занято! И завтра ты будешь таким же дилетантом, каким являешься сегодня. Но нам нужен человек, умеющий говорить, как говорят наиболее ретивые слушатели в конце года на конференции, сообщая нам все, что им заблагорассудится. Мы постоянно получаем от них записки, что-де вы, профессионалы-музыковеды, выражаетесь слишком учено, пользуетесь специальной терминологией... Так вот вам, товарищи публика, получите вашего выдвиженца, Геракла Андроникова, который поговорит близким вам языком. И ты можешь улыбнуться, провести рукою по волосам, даже отчасти симулировать непосредственность и неопытность, развести руками, подыскивая подходящее слово. Это нисколько меня не пугает. А этот идиотский, прости меня, вид... механическое воспроизведение написанного... Уволь! Поди домой и придумай на завтра что-нибудь поумнее и поживее. А главное, обойдись без помощи пера!.. Ступай!.. Нет, задержись на минуту: знаешь, ты слишком много околачиваешься в филармонии, болтаешь с оркестрантами. Ты еще ничего не произвел, а уже начинают поговаривать, что ты бездельник... Ты должен быть очень краток и на праздные вопросы отвечать, прижимая к боку легкий портфель: "Простите, мне некогда, я готовлюсь к своему выступлению!" Ступай!.. Минуту еще: сегодня твой затылок много выразительнее твоей физиономии!.. Не забудь прийти завтра и выступить. Минут за пятнадцать до начала приди. Говори завтра свободно, коротко, остроумно, легко... Помни, что это нетрудно. Если так легче,- вспомни, как я говорю... Прощай!.. И успокойся: о Танееве ты знаешь гораздо больше, чем нужно для завтрашнего твоего опыта...
Была, наконец, еще одна причина для волнения - состояние моего гардероба. Кто-то сказал, что ладо выступать в лакированной обуви. А у меня ее не было! Я же не выступал никогда!.. Нет, говорят, неудобно. Займите. И я обратился к замечательному чтецу, старинному моему другу Антону Исааковичу Шварцу:
- Антон Исаакович, какая у вас нога?
- Я ношу сорок второй размер.
- И у меня сорок второй. Одолжите мне на один вечер ваши лакированные ботинки.
И он одолжил пару новых, ни разу еще не надеванных концертных ботинок с условием, что я переобуюсь сразу же после концерта - по улице в лаковой обуви не пойду - и назавтра верну ему: вечером у него концерт, а постоянные его ботинки в ремонте.
И вот настал день моего первого выступления. День, когда я не ел. Не пил. Не спал. Не лежал. Не сидел. Не стоял. Не ходил. И не бегал. А в немыслимой тоске с л о н я л с я... Хожу по квартире, стараюсь не думать о вечере - сердечная муть. Подумаешь - сердце вскакивает в глотку, и, кажется, кто-то жует его... Я так измучился, так исстрадался, что решил уходить в филармонию засветло: больше ждать я не мог. И мать, очевидно, хотела сказать мне что-то напутственное. Она позвала меня... Но у меня не было рассчитано сил, чтобы еще диспутировать с матерью. Услышав свое имя, и чуть не упал - так мне стало от него плохо... Я спросил:
- Почему ты так странно смотришь?
Мать удивилась:
- Никак я особенно не смотрю...
Я взял под мышку коробку с ботинками Шварца и отправился.
И вот впервые в жизни я вошел в филармонию не с главного хода, откуда пускают публику, а с "шестого" - артистического - подъезда. С подъезда, куда и иногда заходил, чтобы взять пропуск, оставленный знакомым дирижером. И уж, побывав там, в тот вечер находился в состоянии великой немоты и восторга от мысли, что приобщился...
Я пришел часа за два до концерта, когда никого еще не было, и вступил в слабо освещенную голубую гостиную - артистическую, устланную голубым пушистым ковром, уставленную голубой мебелью и украшенную огромными зеркалами в золотых рамах...
Я был один и не берусь объяснить, от кого я прятал ноги в носках под диван, пока обувался в ботинки Шварца. Но когда завязал тесемки и встал, выяснилось, что они мне впору только по длине. В ширину же они были такие узенькие, что ступни сложились в них лодочками. Я потерял устойчивость. При этом подошвы были у них не плоские, а какие-то полукруглые, скользкие, словно натертые специальной мастикой. Я и шага еще не ступил, а мне уже казалось, что я, как на лыжах, лечу с горы. Хватаясь за мебель, я попробовал пройтись, и тут выяснилось вдобавок, что они не гнутся в подъеме и надо ходить, высоко поднимая ноги, словно на них надеты серпы для лазания по телеграфным столбам...
Пока я учился ходить, гостиную наполнили музыканты. Кто строил скрипку, кто вытряхивал на ковер слюни из духовых. Ко мне стали обращаться с вопросами: на каком инструменте я играю, какое музыкальное заведение окончил, родственник мне Иван Иванович или по знакомству приткнул меня в филармонию?
Каждый новый взгляд, на меня обращенный, каждый вопрос погружали меня в еще не изведанные наукою пучины страха. Очень скоро мне стало казаться, что я выпил небольшой тазик новокаина: в груди и под ложечкой занемело, задеревенело, заледенело и, может быть, даже заиндевело. Во рту было так сухо, что язык шуршал, а верхняя губа каждый раз, когда я хотел вежливо улыбнуться, приклеивалась к совершенно сухим зубам так, что приходилось отклеивать пальцем.
Вдруг я увидел дирижера Александра Васильевича Гаука, под чьим управлением должны были играть в тот вечер Танеева. Гаук расхаживал по гостиной, выправлял крахмальные манжеты из рукавов фрака, округлял локти и встряхивал дирижерской палочкой, как термометром. И я услышал, как капризным тенорком он сказал: "Я сегодня что-то волнуюсь, черт побери!" И тоненьким смехом выкрикнул: "Э-хе-хей!"
Я подумал: "Гаук волнуется?.. А я-то что же не волнуюсь еще?" И тут меня стал пробирать озноб, который нельзя унять никакими шубами, ибо он исходит из недр потрясенной страхом души. По скулам стали кататься какие-то желваки... В это время ко мне быстро подошел Соллертинский.
- Ты что, испугался? Плюнь! Перестань сейчас же. Публика не ожидает этих конвульсий и не платила за них. А тебе это может принести ужасные неприятности! Если ты не перестанешь дрожать, я подумаю, что ты абсолютный пошляк! Чего ты боишься? Тебе же не на трубе играть и не на кларнете; язык - все-таки довольно надежный клапан, не подведет! Ну, скажем, тебе надо было бы играть скрипичный концерт Мендельсона, который помнят все в этом зале, и ты боялся бы сделать накладку,- это я мог бы понять. Но того, что ты собираешься сказать, не знает никто, не знаешь даже ты сам: как же они могут узнать, что ты сказал не то слово?.. Если бы я знал, что ты такой вдохновенный трус,- я не стал бы с тобою связываться! Возьми себя в руки - оркестранты смотрят!.. Ну уж раз ты перепугался, тогда тебе не надо говорить про Танеева. Ты еще, чего доброго, скажешь, что он сочинил все симфонии Мясковского, и мы не расхлебаем твое заявление в продолжение десятилетий. Гораздо вернее будет, если ты поимпровизируешь на темы предстоящего сезона. Воспользуйся тем, что сегодня мы открываем цикл абонементных концертов, и перечисли программы, которые будут исполнены в этом году. Назови наиболее интересные сочинения, назови фамилии исполнителей, а в заключение скажи: "Сегодня же мы исполняем одно из лучших произведений русской симфонической классики - Первую, до-минорную Танеева, которую вы услышите в исполнении оркестра под управлением Александра Гаука..." Можешь сказать "це-мольную" симфонию. Можешь сказать: "Первую". Можешь назвать ее до-минорной... Все это - на твое усмотрение... Я надеюсь, какие-нибудь программы застряли у тебя в голове, когда ты переписывал их почерком Акакия Акакиевича? Назови пять или шесть наиболее интересных программ, а в отношении других сделай вид: "Могу назвать, но не считаю нужным". Если же ты вспомнишь на публике все восемьдесят программ, то, несмотря на этот удивительный подвиг памяти, тебя из филармонии вышвырнут... Сегодня от тебя не многое требуется - показать, что ты способен связать два слова. О трех словах речи нет... Важно, чтобы можно было понять, как ты смотришься, как двигаешься... Со стороны содержания ты можешь быть совершенно спокоен. Что же касается техники выступления, то я не хотел тебя заранее волновать, но время уже пришло, поэтому прошу тебя выслушать. В музыкальном отношении акустика этого зала считается безупречной. Но для оратора она немножко трудна. Здесь нельзя сказать "к сожалению...". Здесь надо артикулировать очень отчетливо: "К.Со.Жа.Ле.Ни.Ю."Я несколько утрирую, но принцип таков - максимальная отчетливость. Второе - сила звука. Если тебя слышат в первом ряду - еще не значит, что тебя слышат в тридцать втором. Но если слышат в тридцать втором, то услышат и в первом. И в этом заключается принципиальная разница между первым и тридцать вторым рядом. Итак: говорить надо отчетливо и говорить громко. Иначе тебя вышвырнут... Еще совет: если слово твое будет продолжаться два или три часа и назавтра его напечатают все музыкальные журналы мира,- это тебя не спасет: тебя вышвырнут. Но если ты будешь говорить даже посредственно, но семь или восемь минут, - тебе зааплодируют из благодарности, что скоро кончил. Поэтому тебе выгодно говорить отчетливо, громко и коротко. Запомни еще, что ты должен подняться на дирижерскую подставку. Сделав шаг вперед, ты можешь упасть в зал. Шагнув назад, рискуешь опрокинуться в оркестр. Но если ты будешь торчать, как вбитый в подставку гвоздь,- тебя вышвырнут. Поэтому стой, но двигайся. Корпус должен находиться в движении. Жестикулируй, подыскивая слова, "экай" и "мекай" побольше, старайся показать, что ты готов броситься в бой за каждую произнесенную тобой фразу. Будь экспрессивен и непосредствен. Поменьше скованности. И, наконец, последнее. Новички начинают обычно разглядывать публику. Это плохо кончается. Не надо ее рассматривать. Пусть публика рассматривает тебя. Ты можешь забояться, смутиться. Поэтому выбери в тридцать втором ряду какое-нибудь милое лицо и расскажи ему, что у тебя накипело на душе про Танеева. Кажется, это все! Квалификационная комиссия уже удалилась, все относятся к тебе хорошо, даже наш директор, который не имеет чести знать тебя лично, спросил у меня: "О чем будет болтать ваш бодрячок?" Я уверен, что все будет отлично! Ну, ни пуха тебе ни пера!..
МИФОЛОГИЯ



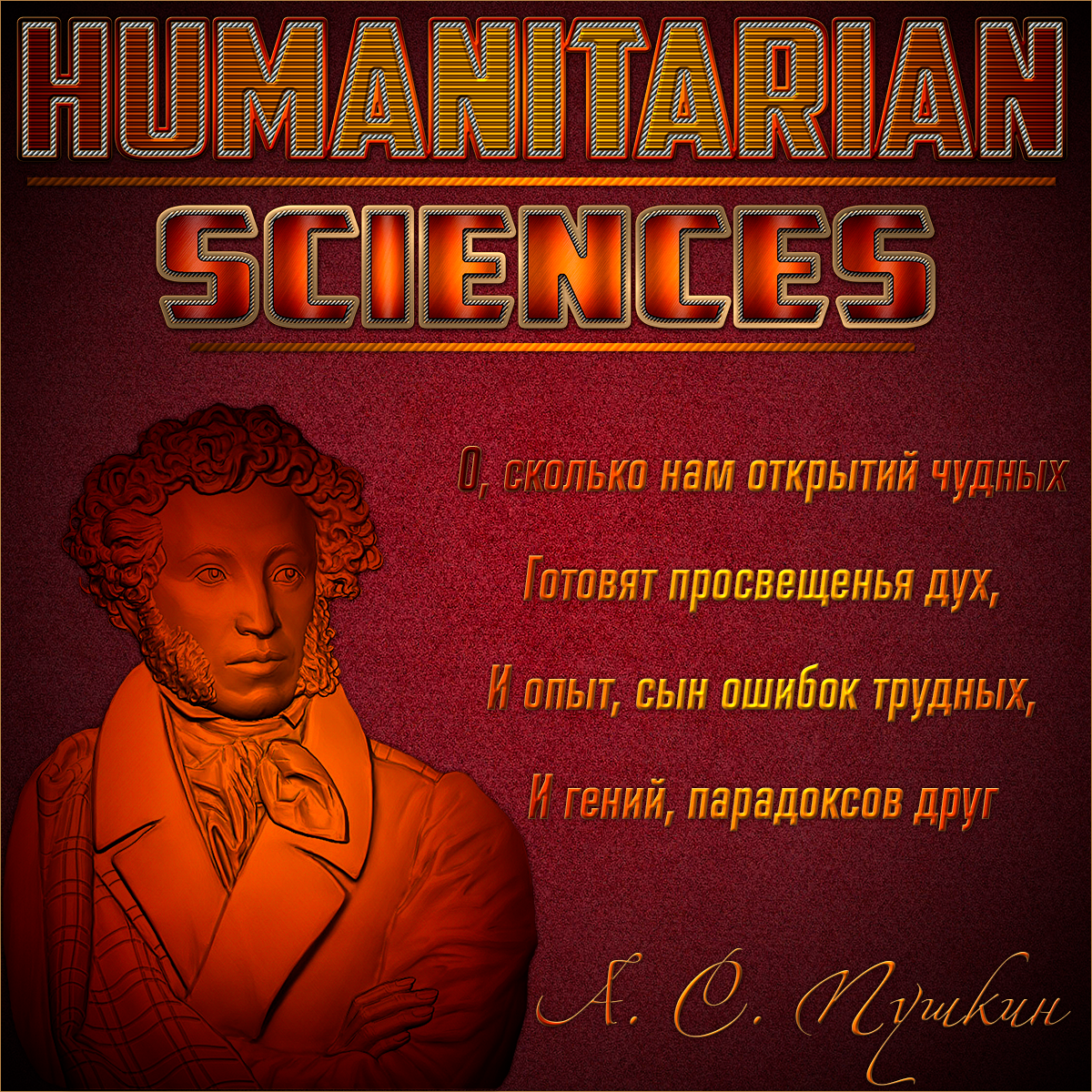











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ


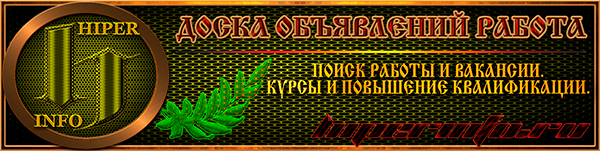

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT
















ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО
( POST FREE ADS WITHOUT REGISTRATION AND FREE )


ДОБАВИТЬ САЙТ (БЛОГ, СТРАНИЦУ) В КАТАЛОГ
( ADD YOUR WEBSITE WITHOUT REGISTRATION AND FREE )

Теги
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
