- 101498 Просмотров
- Обсудить


БЕСЕДА | БЕСЕДА (1) | БЕСЕДА (2) | ЭРИХ ФРОММ БЕСЕДА | РИТОРИКА (10) | РИТОРИКА (9) | РИТОРИКА (8)
РИТОРИКА (7) | РИТОРИКА (6) | РИТОРИКА (5) | РИТОРИКА (4) | РИТОРИКА (3) | РИТОРИКА (2) | РИТОРИКА (1)


ФИЛОСОФИЯ | ЭТИКА | ЭСТЕТИКА | ПСИХОАНАЛИЗ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХИКА | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | РАЗУМ

МИФ | МИФОЛОГИЯ | МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА ( 1 ) | ЦИЦЕРОН ( 1 ) | ВОЛЯ | МЕРА | ЧУВСТВО

РОБЕРТ ГРЕЙВС. МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ГОМЕР. ИЛИАДА / ОДИССЕЯ | ПЛУТАРХ | ЦИЦЕРОН | СОКРАТ | ЛОСЕВ


ПСИХИКА | ПСИХИЧЕСКИЙ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | ПСИХОАНАЛИЗ | ЛЮБОВЬ | ПРАВО | ДОЛЖНОЕ
ТРОП | СРАВНЕНИЕ | ЭПИТЕТ | ГИПЕРБОЛА | МЕТАФОРА | ИРОНИЯ | ОКСИМОРОН | СИНЕКДОХА | ЯЗЫК | ТЕМПЕРАМЕНТ

ЛЮБОВЬ | ВЛАСТЬ | ВЕРА | ОБЛАДАНИЕ И БЫТИЕ | НИЦШЕ \ ЛОСЕВ \ СОЛОВЬЕВ \ ШЕКСПИР \ ГЕТЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 | ПОНЯТИЕ (1) (10) (6) (2) (7) (5) (9)(3)(4) (8)





РИТОРИКА (7) | РИТОРИКА (6) | РИТОРИКА (5) | РИТОРИКА (4) | РИТОРИКА (3) | РИТОРИКА (2) | РИТОРИКА (1)


ФИЛОСОФИЯ | ЭТИКА | ЭСТЕТИКА | ПСИХОАНАЛИЗ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХИКА | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | РАЗУМ

МИФ | МИФОЛОГИЯ | МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА ( 1 ) | ЦИЦЕРОН ( 1 ) | ВОЛЯ | МЕРА | ЧУВСТВО

РОБЕРТ ГРЕЙВС. МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ | ГОМЕР. ИЛИАДА / ОДИССЕЯ | ПЛУТАРХ | ЦИЦЕРОН | СОКРАТ | ЛОСЕВ


ПСИХИКА | ПСИХИЧЕСКИЙ | ПСИХОЛОГИЯ | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ | ПСИХОАНАЛИЗ | ЛЮБОВЬ | ПРАВО | ДОЛЖНОЕ
ТРОП | СРАВНЕНИЕ | ЭПИТЕТ | ГИПЕРБОЛА | МЕТАФОРА | ИРОНИЯ | ОКСИМОРОН | СИНЕКДОХА | ЯЗЫК | ТЕМПЕРАМЕНТ

ЛЮБОВЬ | ВЛАСТЬ | ВЕРА | ОБЛАДАНИЕ И БЫТИЕ | НИЦШЕ \ ЛОСЕВ \ СОЛОВЬЕВ \ ШЕКСПИР \ ГЕТЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 | ПОНЯТИЕ (1) (10) (6) (2) (7) (5) (9)(3)(4) (8)





IV


 Если разделить теоретические сочинения Цицерона на несколько циклов, как это часто делается, то диалог "Об ораторе" окажется принадлежащим одновременно к двум циклам: во-первых, к риторической трилогии "Об ораторе" – "Брут" – "Оратор", во-вторых, к политической трилогии "Об ораторе" – "О государстве" – "О законах". Перед читателем "Об ораторе" обычно выступает в составе риторической трилогии, но связь этого сочинения с политическими произведениями Цицерона едва ли не столь же важна. Три книги "Об ораторе" писались в 55 г. до н.э. – это был один из самых тревожных годов своего времени, когда форум бушевал схватками Клодия и Милона, консулы три месяца не могли вступить в должность, и только личное вмешательство Помпея и Красса навело к концу года порядок в государстве. Цицерона в его уединении на путеоланской вилле эти события не могли не наводить на горькие раздумья. В 54 г., тотчас по окончании "Об ораторе", Цицерон приступает к работе над сочинением "О государстве". Нет никакого сомнения, что основные мысли этого сочинения созревали в голове Цицерона уже тогда, когда он писал "Об ораторе". Больше того, только в общей связи этих мыслей можно вполне понять возникновение и облик диалога "Об ораторе". В основе политической теории Цицерона, как она развернута в сочинении "О государстве", лежит широко известное учение греческой философии о том, что существуют три формы правления – монархия, аристократия и демократия, – но лучшей является форма, смешанная из всех этих трех элементов, так как она более всего соответствует принципу справедливости, на котором зиждется государство, и так как она более всего осуществляет идеал "согласия сословий". Для Цицерона эта идеальная смешанная форма не является беспочвенной утопией: по его мнению, она нашла свое воплощение в римском государственном строе, каков он был накануне гражданских войн, в век Катона и Сципиона. Гражданские войны поколебали его единство, и в Риме возникло словно два борющихся государства в государстве. Чтобы преодолеть этот кризис и восстановить общественное равновесие и справедливость, Риму нужны новые люди, новые вожди – такие, для которых интересы государства выше интересов партии, которые знают, что такое общее благо и высшая справедливость, видят пути к их достижению и умеют повести за собой по этим путям народ. "Первый человек в государстве" (princeps rei publicae), "правитель" (rector), "умиротворитель" (moderator), "блюститель и попечитель государства" (tutor et curator rei publicae) – так называет Цицерон такого идеального вождя. Этот вождь объединяет в себе теоретика и практика, философа и политика, он не только сознает цель, но и владеет средствами для выполнения своей миссии. А из этих средств самое могущественное и важное – красноречие. От V книги трактата "О государстве", где Цицерон рисовал портрет этого идеального вождя, до нас дошли ничтожные отрывки, но и среди них тема красноречия возникает несколько раз. "В своем "Государстве" Туллий говорит, что правитель государства должен быть мужем великим и ученейшим, соединяя в себе и мудрость, и справедливость, и умеренность, и красноречие, плавный бег которого позволил бы ему изъяснить свои сокровенные мысли, чтобы возглавить народ", – говорится в одном из этих отрывков (V, 1, 2). В другом отрывке речь идет о сладостной речи мифического царя Менелая (V, 9, 11); в третьем звучит предупреждение, что речь оратора должна служить только высоким и благородным целям, и что обольщать судей красноречием столь же позорно, как и подкупать их деньгами (там же; ср. "Об ораторе", III, 55). Легко заметить, что, возвращаясь к политическому идеалу времен Сципиона и Катона, Цицерон возвращается и к риторическому идеалу той же поры – его оратор не кто иной, как vir bonus dicendi peritus, для него красноречие имеет цену только в сочетании с политической благонадежностью, а само по себе оно есть опасное оружие, одинаково готовое служить добру и злу. Когда между благонадежностью и красноречием происходит разрыв, это всегда оказывается пагубно для государства: таково демагогическое красноречие вождей демократов, Тиберия Гракха в старшем поколении или Сульпиция Руфа в младшем; оба были замечательными ораторами, но оба погубили в конце концов и себя, и республику. Но не только в римском прошлом, а и дальше в глубине истории, в греческом прошлом усматривал Цицерон прообразы своего идеального философа-политика: это Перикл, ученик Анаксагора, Алкивиад и Критий, ученики Сократа, Дион и Демосфен, ученики Платона, Тимофей, ученик Исократа ("Об ораторе", III, 138-139)... Иными словами, идеал Цицерона оказывается перенесенным в новую эпоху древним идеалом "общественного человека", ἀνὴρ πολιτικός. Поэтому естественно, что и мысли теоретиков этого идеала, греческих софистов, оказываются близки Цицерону: он открыто восхваляет Гиппия, Горгия и других мудрецов, которые знали все и умели говорить обо всем, а историческое поражение этих мудрецов в споре с Сократом объясняет только тем, что презиравший красноречие Сократ сам был красноречив намного больше, чем его соперники ("Об ораторе", II, 126-130). Более того, Цицерон оплакивает это поражение софистов, так как оно разъединило философию и красноречие, теорию и практику, и из общего источника они потекли в разные стороны, как реки с Апеннин ("Об ораторе", III, 56-73). Возвращение к этому единому источнику государственной мудрости греческих и римских вождей Цицерон считает залогом общего блага. В своем отношении к софистам и их идеалу человека Цицерон неизбежно вставал в оппозицию всем греческим философским школам, так как все они в конечном счете вели начало от Сократа, врага софистов. Но хотя Цицерон был усердным учеником философов и причислял себя к школе Платона, величайшего из сократиков, такое противоречие его не смущало. Он был слишком далек от больших философских проблем классической древности, и многое в разногласиях философских эпох и школ казалось ему спором о словах при единомыслии по существу. А если так, то почему не взять лучшее от каждого направления и не соединить все взятое в общем синтезе? Правда, Платон в "Горгии" самым сокрушительным образом ниспровергал софистическую риторику; но ведь тот же Платон в "Федре" сам предлагал блестящий образец такой же философской риторики! И Цицерон стремится совместить Платона с софистами, Аристотеля с Исократом, глубину с широтой, созерцательность с действенностью. Эклектик в философии, он остается эклектиком и в риторике. Это не было его индивидуальной чертой, это было духом времени: один из учителей Цицерона, академик Антиох Аскалонский, посвятил всю свою жизнь попытке примирить и объединить три основные философские школы, академиков, перипатетиков и стоиков, положив в основу пункты их согласия и сведя к спору из-за слов пункты их разногласия. Поэтому, между прочим, так трудно определить прямые источники риторической системы трактата "Об ораторе": несомненно, здесь присутствуют и мысли Филона, и мысли Антиоха, но в какой мере – сказать невозможно. Зато с уверенностью можно сказать, что главным и определяющим в замысле и написании трактата был теоретический и практический опыт самого Цицерона. В эклектике взглядов Цицерона политика занимала особое место. Мы уже говорили, что в теоретической философии Цицерон был скептик, воздерживавшийся от всякого суждения об истине, а в практической философии – стоик, неукоснительно следующий нравственному долгу. В политике эти два принципа сталкивались: как теоретик, Цицерон не мог не признавать, что политические взгляды Гракхов или Клодия имеют такое же право на существование, как и его собственные, но как практик он не мог не восставать против них в твердом сознании своего нравственного долга – борьбы с анархией. Для того чтобы пойти на это, он был должен убедить не только других, но и себя, что его собственный взгляд на вещи если не истиннее, то вероятнее, чем взгляд его политических противников; а средством такого убеждения было красноречие. В той системе философского скептицизма, какую Цицерон воспринял от Филона, истинность была заменена вероятностью, факты – мнениями, доказательность – убедительностью. Таким образом, из всех возможных мнений истинно то, которое красноречивее изложено; таким образом, красноречие есть не только средство изложения уже достигнутых истин, но и средство достижения еще сомнительных истин. Учение Платона выше учения стоиков главным образом потому, что Платон изложил свою метафизику с божественным красноречием, а стоики свою – небрежно, холодно и сухо. Более того, всякий оратор, знакомый с философией, сможет изложить философское учение более убедительно, а следовательно, и более истинно, чем философ, незнакомый с красноречием ("Об ораторе", I, 67; III, 78). Таковы, по-видимому, выводы, которые сделал римский оратор Цицерон из уроков греческого философа Филона Ларисского. Красноречие – вершина науки, как бы утверждает Цицерон; в мире скепсиса, где все истины науки относительны, одни истины красноречия абсолютны, ибо они убедительны. В этом – высшая гордость оратора. Разумеется, этот идеальный образ оратора, рисовавшийся Цицерону, не имел ничего общего с тем оратором, ремесленником слова, которого выпускали на форум риторические школы. "Я много видел ораторов речистых, но ни одного – красноречивого", – повторяет Цицерон слова Марка Антония. Для идеального оратора слово – венец всех знаний, для ритора-ремесленника слово – свобода от всех знаний. Ритор неспособен быть тем политическим вождем, какой нужен Риму: он будет не властвовать событиями, а покоряться им и принесет своими речами не пользу, а вред государству. Ведь задача воспитания политического вождя не в том, чтобы научить его красивой речи, а в том, чтобы научить его пользоваться этой речью. А для этого он должен знать многое и многое, чему не учат в риторических школах: с одной стороны, греческую философскую теорию, т.е. учение о единении граждан вокруг принципа равновесия и справедливости, с другой стороны, римскую политическую практику, т.е. традицию просвещенной аристократии Сципиона и его кружка, последователем которой считал себя Цицерон. Только это соединение красноречия со знаниями и опытом создаст политического вождя: одна риторика здесь бессильна. Поэтому Цицерон и взял названием своего сочинения не традиционное заглавие "Риторика" или "О красноречии", а неожиданное – "Об ораторе". По той же причине Цицерон не стал придавать этому сочинению традиционной формы риторического учебника, а избрал свободную форму философского диалога, еще мало привычную в Риме. Это давало автору три преимущества. Во-первых, это позволяло ему подчеркнуть отличие своего подхода к теме от традиционного подхода школьных учебников и компиляций, в том числе и его собственной юношеской "Риторики" ("О нахождении"): об этом произведении он весьма критически упоминает во введении в диалог (I, 5). Во-вторых, это позволяло ему излагать материал не догматически, как непреложную истину, а дискуссионно, как спорную проблему, приводя и взвешивая все доводы за и против каждого мнения, как того требовала скептическая философия и ораторская выучка. В-третьих, это позволяло ему подкрепить свое мнение авторитетом тех деятелей, которых он выводил действующими лицами своего диалога. Выбор этих лиц был для него нетруден: это были учителя его молодости, лучшие ораторы предшествующих поколений, вожди сената и хранители сципионовских традиций, Лициний Красс и Марк Антоний. Их ораторский талант был общепризнан, их отрицательное отношение к школьной риторике общеизвестно: именно Красс был автором эдикта 92 г., запрещавшего латинские риторические школы. Цицерон не забывает упомянуть об этом в диалоге, разумеется, истолковав этот акт в соответствии с собственными взглядами (III, 93-94). Время действия диалога – первые дни сентября 91 г. до н.э., последняя пора политического мира перед Союзнической войной и марианским переворотом. Место действия – тускуланская усадьба Красса, куда съехались участники диалога на время праздничного перерыва сенатских заседаний. Цицерон, как мы видели, критикует существующую систему риторического обучения с двух точек зрения: во-первых, за отсутствие теоретических, философских основ, во-вторых, за отсутствие практического жизненного опыта. Глашатаем критики первого рода выступает в диалоге глубокомысленный Красс, глашатаем критики второго рода – энергичный Антоний. Луцию Лицинию Крассу во время действия диалога было 49 лет; он был консулом за четыре года до того (в 95 г.) и цензором за год до того (в 92 г.). За ним было уже много заслуг в борьбе сената против демократии: осуждение Карбона, одного из виднейших гракханцев (119 г.), попытка вернуть сенату захваченные всадничеством суды (106 г.), закон, отвергавший притязания италиков на римское гражданство (95 г.); в самое время действия диалога он был занят борьбой с консулом 91 г. Марцием Филиппом, сторонником демократических реформ Друза, и через десять дней после описанной Цицероном беседы произнес против Филиппа свою лучшую речь, оказавшуюся его последней речью (III, 1-6). Марк Антоний (отец Гая Антония, который был коллегой Цицерона по консульству, и дед триумвира Марка Антония, по чьему приказанию Цицерон впоследствии был казнен) был старше Красса на три года и занимал консульскую должность на четыре года, а цензорскую на пять лет раньше своего товарища. Он был столь же предан сенатской партии, но не столь последователен во всех своих действиях: свою лучшую речь он произнес в защиту Гая Норбана, своего товарища по военной службе, хотя Норбан был демократ, а нападал на него Сульпиций, аристократ и единомышленник Антония (II, 197-204). Антоний пережил Красса, участвовал в Союзнической войне и погиб во время террора Цинны (III, 10). Связанные тесной личной дружбой и политическим единомыслием, Красс и Антоний тем не менее отличались друг от друга и характером и красноречием. Оба они учились у греческих философов (I, 45; II, 365; III, 75), но Красс относился к почерпнутым знаниям глубоко серьезно, Антоний – с оттенком иронии; Красс решительно отвергал школьную риторику, Антоний же сам когда-то написал маленький риторический учебник (I, 94, 206); Красс предпочитал сенатское красноречие, Антоний – судебное; Красс был выше всего в объяснениях и истолкованиях, Антоний – в нападении и опровержении; речь Красса отличалась величественным пафосом, речь Антония – сжатой силой; слог Красса был отделан до совершенства, между тем как Антоний полагался лишь на естественное чувство языка. В этих двух фигурах, своим сходством и различием превосходно дополнявших друг друга, Цицерон нашел идеальных героев своего диалога, поборника глубокой мысли и поборника блестящий силы. Образы этих ораторов, конечно, идеализированы Цицероном – он сам оговаривает, что их знакомство с греческой наукой для многих было весьма сомнительным (II, 1); но соотношение между двумя образами передано, по-видимому, верно. Вокруг этих двух главных персонажей диалога группируются остальные действующие лица. Прежде всего это пара младших ораторов, учеников и продолжателей Красса и Антония – Сульпиций и Котта. Во время диалога им уже по 33 года, и каждый из них уже известен как талантливый оратор, но в доме Красса они по-прежнему чувствуют себя начинающими учениками, ищущими у старших мастеров образца и совета. По их побуждению и для их наставления, собственно, и завязывается беседа об истинном ораторе. Это накладывает характерный римский отпечаток на весь разговор: диалог ведется не между равными, не между философами-теоретиками, в споре ищущими истину (как в греческом диалоге), а между старшими и младшими, между политиками-практиками, хранителями аристократической традиции, в беседе передающими свой опыт от учителей к ученикам. Из двух молодых людей Сульпиций более подражал изобилию и пафосу Красса, Котта – простоте и силе Антония. Позднейшая судьба их была различна. Сульпиций вскоре перешел от аристократов к демократам, был главным действующим лицом бурного марианского переворота 88 г. и пал одной из первых жертв Суллы. Котте удалось пережить (хотя и в изгнании) гражданскую войну, он мирно достиг консульства в 75 г. и умер на следующий год; он был неизменно дружен с молодым Цицероном, и именно на него ссылается Цицерон как на источник своих сведений о беседе Красса и Антония (I, 26) – обычная условность диалогического жанра. Если Сульпиций и Котта представляют в диалоге младшее поколение, то Квинт Муций Сцевола представляет старшее. Ему около семидесяти лет (он был консулом в 117 г.), и он служит как бы связующим звеном между поколением Красса и Антония и поколением Сципиона и Лелия: его жена – дочь Лелия, а его дочь – жена Красса. В семействе Сцевол наследственным было изучение права (I, 39, 165), и Сцевола выступает в диалоге как хранитель древних римских традиций, требующий от государственного деятеля прежде всего благоразумия и знаний и скептически относящийся ко всякому красноречию (I, 35-44). Однако и он хорошо знаком с греческой философией и помнит уроки Панэтия. Цицерон смолоду хранил живую память о Сцеволе и впоследствии повторил самый лестный отзыв о нем в "Бруте" (147-150). Сцевола выступает участником диалога только в I книге; затем он удаляется, но вместо него появляются два новых собеседника – Квинт Лутаций Катул и Гай Юлий Цезарь Страбон; Катул принадлежит к поколению Красса и Антония, Цезарь – к поколению Сульпиция и Котты. Катул, деливший с Марием консульство и победы над германцами, славился своим вкусом, греческой образованностью и изяществом речи; Цезарь, несмотря на молодые годы, был уже известен как несравненный мастер шутки и насмешки, и в диалоге он появляется, собственно, лишь затем, чтобы сделать род содоклада на эту тему. Дом Катула был центром кружка молодых поэтов, а Цезарь был сам поэтом и писал трагедии. Оба они, и старый и молодой, погибли в годы марианского террора. Ими заключается состав семи собеседников диалога "Об ораторе". Древность знала две разновидности в жанре диалога: диалог платоновского типа, состоящий из коротких реплик, которыми один из собеседников постепенно наводит другого на правильное решение проблемы, и диалог аристотелевского типа, состоящий из связных речей, в которых собеседники поочередно высказывают свое мнение о предмете спора. Диалоги Цицерона принадлежат каристотелевскому типу: действующие лица высказываются в них связно, пространно и многословно. Однако в диалоге "Об ораторе", первой цицероновской пробе нового жанра, забота о разговорной естественности все же присутствует: короткие речи чередуются с долгими, долгие перебиваются репликами и замечаниями, фиктивность диалога не обнажается так, как это будет в торопливо написанных философских сочинениях последних лет. Подражая Аристотелю, автор помнит и о Платоне. В начале диалога, выбирая место для беседы под платаном, собеседники ссылаются на "Федра" (I, 28); в конце, где предсказывается славное будущее начинающему Гортензию (III, 228-230), несомненна аналогия пророчеству об Исократе в том же "Федре" (место, которое Цицерон помнил и любил, видя в нем залог желанного союза философии с риторикой); общий тон разговора, происходящего за считанные дни до кончины Красса, напоминает читателям платоновского "Федона". Даже в более частных и случайных мотивах Цицерон старался брать пример с Платона: любопытное свидетельство об этом сохранилось в письме к Аттику (IV, 16, 3). Аттик удивлялся, что Сцевола, выступив в первой книге диалога, затем исчезает со сцены; Цицерон ему напоминает, что таким же образом в "Государстве" Платона старый Кефал, приняв Сократа, участвует лишь в первой беседе с ним, а затем уходит и не возвращается. "Платон, мне думается, счел неуместным заставлять человека таких лет участвовать дольше в столь длинной беседе. Я полагал, что мне следует еще того более остерегаться этого по отношению к Сцеволе: и возраст его и здоровье, как ты помнишь, и высокое положение были таковы, что для него едва ли было достаточно пристойным жить много дней в тускуланской усадьбе Красса. Беседа, помещенная в первой книге, не была чужда занятиям Сцеволы; прочие же книги, как тебе известно, говорят о ремесле. Я совершенно не хотел, чтобы этот старик, любитель шутки, которого ты знал, принимал в этом участие". Последние строки приведенного отрывка указывают на еще одну особенность диалога "Об ораторе" – на его композицию. Цицерон отличает первую книгу диалога, где вопрос об истинном красноречии ставится во всей его философской широте, и две последние книги, где речь идет лишь об отдельных сторонах ораторского искусства (Цицерон пользуется греческим термином: τεχνολογία, ремесло). В первой книге Красс и Антоний выступают попеременно, завязывая спор, во второй – Антоний рассуждает о нахождении, расположении и памяти, в третьей – Красс говорит о словесном выражении и о произнесении. Последнее слово, таким образом, остается за Крассом. Для Цицерона такая композиция имеет особый смысл. Его целью было подвести римских читателей к образу идеального оратора – философа и политика в одном лице. Делать это надо было осторожно: слишком нереальным должно было казаться римским практикам такое сочетание. И Цицерон искусным приемом завоевывает внимание публики. В первой книге он выводит не один, а два идеала и сталкивает их между собой в споре Красса и Антония: идеал философский и практический, греческий и римский, крассовский и антониевский. А затем, во второй и третьей книгах, он постепенно сближает эти две враждебные точки зрения и подробным раскрытием взглядов сперва Антония, а потом Красса показывает, что в действительности обе крайности сходятся, и подлинный идеал красноречия оказывается одним и тем же в понимании обоих спорящих. В первой книге приближение к теме совершается в три приема. Раньше всего – еще во вступлении, до начала диалога – Цицерон от собственного лица ставит вопрос, почему красноречием занимаются столь многие, а достигают в нем успеха столь немногие? – и сам на него отвечает: потому что красноречие – труднейшее из искусств, так как требует от оратора знаний сразу по многим наукам, из которых каждая и сама по себе уже значительна (I, 6-20). После этого возникает второй вопрос: в чем же это истинное величие красноречия? Красс произносит краткую, но яркую похвалу красноречию в самом высоком плане: это высшее проявление человеческих сил, основа общественного и частного благосостояния и т.д. (I, 30-34). Эта речь вызывает возражения Сцеволы и Антония: Сцевола указывает, что политика может обходиться и обходится без красноречия (I, 35-44), Антоний напоминает, что философия также отвергает красноречие и даже отрицает за ним имя науки (I, 80-95). Тогда Красс произносит вторую речь, в которой идет на уступки: он уже не настаивает на образе оратора-мыслителя, который царит над всеми науками, придавая им совершенство своим красноречием, но выдвигает образ оратора-политика и правозащитника, который знаком со всеми науками и в случае необходимости черпает из них материал для своих речей (I, 45-73). Однако Красс не противополагает эти образы один другому, в его речи они все время подменяют друг друга, переливаются друг в друга, выдвигая на первый план то те, то другие черты; недаром Сцевола с улыбкой отвечает ему: "Ты, Красс, сумел какой-то уловкой и уступить и не уступить мне те свойства, которые я оспаривал в ораторе". Этот двоящийся образ идеального оратора, возникающий в речи Красса, как бы предвещает тот синтез теоретических и практических требований к оратору, каким явится все сочинение "Об ораторе". Но сейчас, в начале диалога, этот обрисованный Крассом образ служит лишь поводом для завязки – для открытого столкновения мнений Красса и Антония об ораторском искусстве. Материалом для столкновения мнений служит естественно возникающий третий вопрос: каковы должны быть качества истинного оратора и как они приобретаются? Первым выступает Красс. Сначала он говорит о трех элементах традиционной подготовки оратора – дарование, обучение, упражнение (I, 107-159). Затем, в ответ на просьбу подробнее остановиться на более высоких требованиях, т.е. на [с.42] знакомстве оратора со всеми науками, он для примера выбирает право и подробно показывает, что знание права для оратора необходимо, интересно и почетно (I, 166-203). Разработка права была национальной гордостью римлян, и Цицерон разумно рассчитывал, что сочувствие читателей он скорее всего завоюет, заступаясь за право, изгоняемое греческими риторами из школьного обучения. На всю эту длинную речь Красса тотчас же возражает такой же развернутой речью Антоний (I, 207-262). Он сразу противопоставляет крассовскому представлению об ораторе, который заключает в себе познание всех наук и искусств, свое собственное представление: оратор – это человек, умеющий в суде и собрании пользоваться приятными словами и убедительными мыслями. А затем он последовательно утверждает, что красноречие и политика, красноречие и философия, красноречие и правоведение – вещи разные; что политик не обязан быть оратором, философия несовместима с практической жизнью, в правоведении достаточно следовать советам знающих друзей; и наконец, что весь объем знаний, рекомендуемых Крассом, недоступен для одного человека, в особенности для такого занятого человека, как оратор. Цель оратора – убеждать речью, и он должен не отвлекаться, а сосредоточиться на этом искусстве. Речь Антония стройна и убедительна: видно, что всем своим рассудком Цицерон был с Антонием, как всем своим чувством – с Крассом. Сопоставление двух точек зрения настолько контрастно, что лучшей завязки для диалога не приходится желать: собеседники расходятся с твердым намерением возобновить разговор на следующий день. Этот возобновленный разговор займет остальные две книги. Но уже здесь, в финале первой книги, в момент наивысшего напряжения спора, неожиданно звучит ироническая реплика Красса, предугадывающая его мирный исход: "Боюсь, Антоний, что не истинное свое мнение ты излагаешь, а только упражняешься в опровержении чужого, как ораторы и как философы!" В самом деле, уже в первой книге выясняется одна важная общая черта взглядов Красса и Антония – их отношение к вопросу, разделявшему философов и риторов: является ли риторика наукой? Философы утверждали, что риторика не есть наука, риторы утверждали обратное; Красс предлагает компромиссное решение: риторика не есть истинная, т.е. умозрительная наука, но она представляет собой практически полезную систематизацию ораторского опыта; и Антоний соглашается с таким пониманием (I, 107-110). А это позволяет обоим собеседникам застраховать себя от критики со стороны философов и самим сосредоточиться на критике школьных риторов с их уверенностью в незыблемой научности преподаваемых предписаний. Эта общность критического взгляда на школьную риторику и становится почвой для сближения и слияния мнений Красса и Антония об истинном ораторе. Начало критике школьных догм кладет Красс: в своей характеристике трех элементов ораторского образования – дарование, обучение, упражнение – он искусно подменяет понятие "обучение" (ars) понятием "рвение" (studium) (I, 133-135), а перечислив (нарочито упрощенно) основные предписания риторической школы, заключает, что все они не создают искусственного красноречия, а лишь развивают природное (I, 146). Антоний, отвечая Крассу, ни словом не возражает против такого подхода, а в своей речи о нахождении, занимающей большую часть второй книги, развивает те же мысли еще дальше. Речь Антония во второй книге начинается пространной и эффектной похвалой красноречию (II, 28-38): это до известной степени параллель той речи Красса, с которой начиналась первая книга, и хотя Красс прославлял слово скорее как средство познания, а Антоний – как средство убеждения, сходство между двумя речами таково, что вызывает новое ироническое замечание Красса и честный ответ Антония: "вчера я говорил, чтобы поспорить с тобой, сегодня говорю то, что думаю". Вслед за этим Антоний приступает к изложению своих взглядов на нахождение материала, все время противопоставляя их взглядам школьной риторики. Говоря о видах красноречия, он указывает, что нецелесообразно к судебному и политическому красноречию приравнивать малопрактичное хвалебное (II, 47); говоря о разделах речи, он замечает, что требования ясности, выразительности и пр., относясь ко всей речи, относятся ко всем ее разделам в равной мере, так что неразумно ограничивать применение пафоса – заключением, а требование краткости и ясности – повествованием и т.п. (II, 79-83, ср. 326); говоря о приобретении опыта, осуждает школьные упражнения с фиктивными казусами, всегда более легкими и примитивными, чем в действительности (II, 100); говоря о нахождении, критикует излишний педантизм в трактовке спорного пункта и излишнюю мелочность в классификации доводов (II, 108-109, 117-118) и т.д. Вслед за Крассом Антоний подчеркивает значение природного таланта и добросовестного рвения в начинающем ораторе; для риторической "науки" в собственном смысле слова остается лишь узкое пространство между "дарованием" и "рвением" (II, 150). Больше того, Антоний пытается заменить в риторической системе роль "обучения" ролью "подражания" и систему правил системой образцов (II, 90-98) – здесь он удачно применяет против риторов их же оружие: подражание классикам было давним средством риторического образования, но в системе школьных наставлений оно никогда не могло найти твердого места. Все эти рассуждения сопровождаются непрерывными напоминаниями о чисто практической и чисто римской точке зрения говорящего, в противоположность суесловию греческих учителей; иллюстрацией этого противоположения должен служить остроумный анекдот о Ганнибале и Формионе, вставленный в начальную часть речи (II, 75-76). В противовес школьным тонкостям, Цицерон выдвигает в речи Антония два общих понятия, определяющие суть двух главных аспектов красноречия: "общий вопрос" (θέσις ) для логического аспекта, "уместность" (πρέπον ) для эмоционального аспекта. С понятием общего вопроса мы уже знакомы – его появление в риторике связано, по-видимому, с именем Филона или его предшественников; понятие "уместности" бытовало в риторике, по крайне мере, со времен Феофраста, но особенную широту и глубину оно получило в стоической философии Панэтия, откуда его и усвоил Цицерон. Впрочем, подробного развития эти два понятия в речи Антония еще не получают. Общий вопрос упоминается здесь лишь с практической точки зрения – как средство заменить многочисленные и дробные доводы "от частностей", разрабатываемые по риторической системе, немногими и связными доводами "от целого", извлекаемыми из общего вопроса (II, 133-141). Понятие уместности служит здесь лишь для того, чтобы ввести рассуждения о страстях, возбуждаемых речью (II, 114, 186, 205 и др.). Раздел о возбуждении страстей изложен Цицероном с особенной подробностью: важность его была общепризнанна, но в логические схемы риторов он укладывался плохо, и Цицерон пользуется случаем показать превосходство своего подхода к красноречию. Наиболее обстоятельно говорится о юморе и остроумии – материале, наименее поддающемся логическому схематизированию (II, 216-217): здесь Антоний передает слово Цезарю, известному мастеру шутки, и тот держит об этом длинную речь, пересыпанную многочисленными примерами (II, 216-290). Цицерон сам славился остроумием и знал, что такого рода отступление в его трактате вызовет широкий интерес. А в общей композиции второй книги этот раздел создает приятное разнообразие, облегчая Цицерону завершение книги малооригинальными замечаниями о диспозиции, о несудебных родах речи и о памяти. Таким образом, почти вся цицероновская программа новой риторики, и положительная и отрицательная, оказывается изложенной в речи Антония и представленной как вывод из самых практических и самых традиционно-римских соображений деловитого оратора. Противоречие между этой практической программой и той теоретической программой, которую в начале сочинения вызывающе излагал Красс, оказывается мнимым. Крассу остается только поставить все точки над "и", наметив за риторическими положениями Антония глубину философской перспективы. Это и делается в третьей книге диалога. Третья книга по плану беседы должна заключать речь Красса о словесном выражении и о произнесении речи – самых важных для оратора предметах. В действительности эта тема дважды перебивается обширными отступлениями, в общей сложности занимающими около трети всей книги. В этих отступлениях сосредоточен главный интерес Цицерона. Первое отступление рисует общую картину отношений между риторикой и философией (III, 56-108): их первоначальное единство, последующее разделение, отношение отдельных философских школ к красноречию и необходимость для красноречия обращаться к философским образцам. Второе отступление (III, 120-143) раскрывает прообразы желаемого синтеза красноречия и философии: среди теоретиков – это софисты, среди практиков – в Риме Катон, в Греции великие народные вожди от Солона и Писистрата до Перикла и Тимофея. Так перед уже подготовленным читателем раскрывается, наконец, конечная цель всей риторико-политической программы Цицерона. Что эта цель трудно достижима, автор не скрывает: на всем протяжении речи Красс не устает напоминать, что он говорит об идеальной цели, достигнуть которой может лишь идеальный оратор (III, 54, 74, 83, 90). Впрочем, Цицерон заботливо смягчает решительность этих заявлений, тут же заставляя собеседников восклицать, что он, Красс, и есть живое воплощение такого идеального оратора (III, 82, 126-131, 189). Красс отклоняет эти комплименты, но по существу и он допускает появление такого истинного оратора, если в нем осуществится идеальное сочетание ораторского дарования с философской образованностью (I, 79, ср. 95). Почти не может быть сомнений, что Цицерон, вкладывая это пророчество в уста Красса, имел в виду самого себя. Однако, разумеется, открыто об этом нигде не сказано, и даже в концовке сочинения для намека на дальнейшее совершенствование римского красноречия упомянуто лишь имя Гортензия. Совпадение мыслей Красса о риторике с мыслями Антония подчеркивается тем, что оба важнейших понятия второй книги – "общий вопрос" и "уместность" – возникают и в третьей книге: уместность – как одно из четырех феофрастовских требований.
Если разделить теоретические сочинения Цицерона на несколько циклов, как это часто делается, то диалог "Об ораторе" окажется принадлежащим одновременно к двум циклам: во-первых, к риторической трилогии "Об ораторе" – "Брут" – "Оратор", во-вторых, к политической трилогии "Об ораторе" – "О государстве" – "О законах". Перед читателем "Об ораторе" обычно выступает в составе риторической трилогии, но связь этого сочинения с политическими произведениями Цицерона едва ли не столь же важна. Три книги "Об ораторе" писались в 55 г. до н.э. – это был один из самых тревожных годов своего времени, когда форум бушевал схватками Клодия и Милона, консулы три месяца не могли вступить в должность, и только личное вмешательство Помпея и Красса навело к концу года порядок в государстве. Цицерона в его уединении на путеоланской вилле эти события не могли не наводить на горькие раздумья. В 54 г., тотчас по окончании "Об ораторе", Цицерон приступает к работе над сочинением "О государстве". Нет никакого сомнения, что основные мысли этого сочинения созревали в голове Цицерона уже тогда, когда он писал "Об ораторе". Больше того, только в общей связи этих мыслей можно вполне понять возникновение и облик диалога "Об ораторе". В основе политической теории Цицерона, как она развернута в сочинении "О государстве", лежит широко известное учение греческой философии о том, что существуют три формы правления – монархия, аристократия и демократия, – но лучшей является форма, смешанная из всех этих трех элементов, так как она более всего соответствует принципу справедливости, на котором зиждется государство, и так как она более всего осуществляет идеал "согласия сословий". Для Цицерона эта идеальная смешанная форма не является беспочвенной утопией: по его мнению, она нашла свое воплощение в римском государственном строе, каков он был накануне гражданских войн, в век Катона и Сципиона. Гражданские войны поколебали его единство, и в Риме возникло словно два борющихся государства в государстве. Чтобы преодолеть этот кризис и восстановить общественное равновесие и справедливость, Риму нужны новые люди, новые вожди – такие, для которых интересы государства выше интересов партии, которые знают, что такое общее благо и высшая справедливость, видят пути к их достижению и умеют повести за собой по этим путям народ. "Первый человек в государстве" (princeps rei publicae), "правитель" (rector), "умиротворитель" (moderator), "блюститель и попечитель государства" (tutor et curator rei publicae) – так называет Цицерон такого идеального вождя. Этот вождь объединяет в себе теоретика и практика, философа и политика, он не только сознает цель, но и владеет средствами для выполнения своей миссии. А из этих средств самое могущественное и важное – красноречие. От V книги трактата "О государстве", где Цицерон рисовал портрет этого идеального вождя, до нас дошли ничтожные отрывки, но и среди них тема красноречия возникает несколько раз. "В своем "Государстве" Туллий говорит, что правитель государства должен быть мужем великим и ученейшим, соединяя в себе и мудрость, и справедливость, и умеренность, и красноречие, плавный бег которого позволил бы ему изъяснить свои сокровенные мысли, чтобы возглавить народ", – говорится в одном из этих отрывков (V, 1, 2). В другом отрывке речь идет о сладостной речи мифического царя Менелая (V, 9, 11); в третьем звучит предупреждение, что речь оратора должна служить только высоким и благородным целям, и что обольщать судей красноречием столь же позорно, как и подкупать их деньгами (там же; ср. "Об ораторе", III, 55). Легко заметить, что, возвращаясь к политическому идеалу времен Сципиона и Катона, Цицерон возвращается и к риторическому идеалу той же поры – его оратор не кто иной, как vir bonus dicendi peritus, для него красноречие имеет цену только в сочетании с политической благонадежностью, а само по себе оно есть опасное оружие, одинаково готовое служить добру и злу. Когда между благонадежностью и красноречием происходит разрыв, это всегда оказывается пагубно для государства: таково демагогическое красноречие вождей демократов, Тиберия Гракха в старшем поколении или Сульпиция Руфа в младшем; оба были замечательными ораторами, но оба погубили в конце концов и себя, и республику. Но не только в римском прошлом, а и дальше в глубине истории, в греческом прошлом усматривал Цицерон прообразы своего идеального философа-политика: это Перикл, ученик Анаксагора, Алкивиад и Критий, ученики Сократа, Дион и Демосфен, ученики Платона, Тимофей, ученик Исократа ("Об ораторе", III, 138-139)... Иными словами, идеал Цицерона оказывается перенесенным в новую эпоху древним идеалом "общественного человека", ἀνὴρ πολιτικός. Поэтому естественно, что и мысли теоретиков этого идеала, греческих софистов, оказываются близки Цицерону: он открыто восхваляет Гиппия, Горгия и других мудрецов, которые знали все и умели говорить обо всем, а историческое поражение этих мудрецов в споре с Сократом объясняет только тем, что презиравший красноречие Сократ сам был красноречив намного больше, чем его соперники ("Об ораторе", II, 126-130). Более того, Цицерон оплакивает это поражение софистов, так как оно разъединило философию и красноречие, теорию и практику, и из общего источника они потекли в разные стороны, как реки с Апеннин ("Об ораторе", III, 56-73). Возвращение к этому единому источнику государственной мудрости греческих и римских вождей Цицерон считает залогом общего блага. В своем отношении к софистам и их идеалу человека Цицерон неизбежно вставал в оппозицию всем греческим философским школам, так как все они в конечном счете вели начало от Сократа, врага софистов. Но хотя Цицерон был усердным учеником философов и причислял себя к школе Платона, величайшего из сократиков, такое противоречие его не смущало. Он был слишком далек от больших философских проблем классической древности, и многое в разногласиях философских эпох и школ казалось ему спором о словах при единомыслии по существу. А если так, то почему не взять лучшее от каждого направления и не соединить все взятое в общем синтезе? Правда, Платон в "Горгии" самым сокрушительным образом ниспровергал софистическую риторику; но ведь тот же Платон в "Федре" сам предлагал блестящий образец такой же философской риторики! И Цицерон стремится совместить Платона с софистами, Аристотеля с Исократом, глубину с широтой, созерцательность с действенностью. Эклектик в философии, он остается эклектиком и в риторике. Это не было его индивидуальной чертой, это было духом времени: один из учителей Цицерона, академик Антиох Аскалонский, посвятил всю свою жизнь попытке примирить и объединить три основные философские школы, академиков, перипатетиков и стоиков, положив в основу пункты их согласия и сведя к спору из-за слов пункты их разногласия. Поэтому, между прочим, так трудно определить прямые источники риторической системы трактата "Об ораторе": несомненно, здесь присутствуют и мысли Филона, и мысли Антиоха, но в какой мере – сказать невозможно. Зато с уверенностью можно сказать, что главным и определяющим в замысле и написании трактата был теоретический и практический опыт самого Цицерона. В эклектике взглядов Цицерона политика занимала особое место. Мы уже говорили, что в теоретической философии Цицерон был скептик, воздерживавшийся от всякого суждения об истине, а в практической философии – стоик, неукоснительно следующий нравственному долгу. В политике эти два принципа сталкивались: как теоретик, Цицерон не мог не признавать, что политические взгляды Гракхов или Клодия имеют такое же право на существование, как и его собственные, но как практик он не мог не восставать против них в твердом сознании своего нравственного долга – борьбы с анархией. Для того чтобы пойти на это, он был должен убедить не только других, но и себя, что его собственный взгляд на вещи если не истиннее, то вероятнее, чем взгляд его политических противников; а средством такого убеждения было красноречие. В той системе философского скептицизма, какую Цицерон воспринял от Филона, истинность была заменена вероятностью, факты – мнениями, доказательность – убедительностью. Таким образом, из всех возможных мнений истинно то, которое красноречивее изложено; таким образом, красноречие есть не только средство изложения уже достигнутых истин, но и средство достижения еще сомнительных истин. Учение Платона выше учения стоиков главным образом потому, что Платон изложил свою метафизику с божественным красноречием, а стоики свою – небрежно, холодно и сухо. Более того, всякий оратор, знакомый с философией, сможет изложить философское учение более убедительно, а следовательно, и более истинно, чем философ, незнакомый с красноречием ("Об ораторе", I, 67; III, 78). Таковы, по-видимому, выводы, которые сделал римский оратор Цицерон из уроков греческого философа Филона Ларисского. Красноречие – вершина науки, как бы утверждает Цицерон; в мире скепсиса, где все истины науки относительны, одни истины красноречия абсолютны, ибо они убедительны. В этом – высшая гордость оратора. Разумеется, этот идеальный образ оратора, рисовавшийся Цицерону, не имел ничего общего с тем оратором, ремесленником слова, которого выпускали на форум риторические школы. "Я много видел ораторов речистых, но ни одного – красноречивого", – повторяет Цицерон слова Марка Антония. Для идеального оратора слово – венец всех знаний, для ритора-ремесленника слово – свобода от всех знаний. Ритор неспособен быть тем политическим вождем, какой нужен Риму: он будет не властвовать событиями, а покоряться им и принесет своими речами не пользу, а вред государству. Ведь задача воспитания политического вождя не в том, чтобы научить его красивой речи, а в том, чтобы научить его пользоваться этой речью. А для этого он должен знать многое и многое, чему не учат в риторических школах: с одной стороны, греческую философскую теорию, т.е. учение о единении граждан вокруг принципа равновесия и справедливости, с другой стороны, римскую политическую практику, т.е. традицию просвещенной аристократии Сципиона и его кружка, последователем которой считал себя Цицерон. Только это соединение красноречия со знаниями и опытом создаст политического вождя: одна риторика здесь бессильна. Поэтому Цицерон и взял названием своего сочинения не традиционное заглавие "Риторика" или "О красноречии", а неожиданное – "Об ораторе". По той же причине Цицерон не стал придавать этому сочинению традиционной формы риторического учебника, а избрал свободную форму философского диалога, еще мало привычную в Риме. Это давало автору три преимущества. Во-первых, это позволяло ему подчеркнуть отличие своего подхода к теме от традиционного подхода школьных учебников и компиляций, в том числе и его собственной юношеской "Риторики" ("О нахождении"): об этом произведении он весьма критически упоминает во введении в диалог (I, 5). Во-вторых, это позволяло ему излагать материал не догматически, как непреложную истину, а дискуссионно, как спорную проблему, приводя и взвешивая все доводы за и против каждого мнения, как того требовала скептическая философия и ораторская выучка. В-третьих, это позволяло ему подкрепить свое мнение авторитетом тех деятелей, которых он выводил действующими лицами своего диалога. Выбор этих лиц был для него нетруден: это были учителя его молодости, лучшие ораторы предшествующих поколений, вожди сената и хранители сципионовских традиций, Лициний Красс и Марк Антоний. Их ораторский талант был общепризнан, их отрицательное отношение к школьной риторике общеизвестно: именно Красс был автором эдикта 92 г., запрещавшего латинские риторические школы. Цицерон не забывает упомянуть об этом в диалоге, разумеется, истолковав этот акт в соответствии с собственными взглядами (III, 93-94). Время действия диалога – первые дни сентября 91 г. до н.э., последняя пора политического мира перед Союзнической войной и марианским переворотом. Место действия – тускуланская усадьба Красса, куда съехались участники диалога на время праздничного перерыва сенатских заседаний. Цицерон, как мы видели, критикует существующую систему риторического обучения с двух точек зрения: во-первых, за отсутствие теоретических, философских основ, во-вторых, за отсутствие практического жизненного опыта. Глашатаем критики первого рода выступает в диалоге глубокомысленный Красс, глашатаем критики второго рода – энергичный Антоний. Луцию Лицинию Крассу во время действия диалога было 49 лет; он был консулом за четыре года до того (в 95 г.) и цензором за год до того (в 92 г.). За ним было уже много заслуг в борьбе сената против демократии: осуждение Карбона, одного из виднейших гракханцев (119 г.), попытка вернуть сенату захваченные всадничеством суды (106 г.), закон, отвергавший притязания италиков на римское гражданство (95 г.); в самое время действия диалога он был занят борьбой с консулом 91 г. Марцием Филиппом, сторонником демократических реформ Друза, и через десять дней после описанной Цицероном беседы произнес против Филиппа свою лучшую речь, оказавшуюся его последней речью (III, 1-6). Марк Антоний (отец Гая Антония, который был коллегой Цицерона по консульству, и дед триумвира Марка Антония, по чьему приказанию Цицерон впоследствии был казнен) был старше Красса на три года и занимал консульскую должность на четыре года, а цензорскую на пять лет раньше своего товарища. Он был столь же предан сенатской партии, но не столь последователен во всех своих действиях: свою лучшую речь он произнес в защиту Гая Норбана, своего товарища по военной службе, хотя Норбан был демократ, а нападал на него Сульпиций, аристократ и единомышленник Антония (II, 197-204). Антоний пережил Красса, участвовал в Союзнической войне и погиб во время террора Цинны (III, 10). Связанные тесной личной дружбой и политическим единомыслием, Красс и Антоний тем не менее отличались друг от друга и характером и красноречием. Оба они учились у греческих философов (I, 45; II, 365; III, 75), но Красс относился к почерпнутым знаниям глубоко серьезно, Антоний – с оттенком иронии; Красс решительно отвергал школьную риторику, Антоний же сам когда-то написал маленький риторический учебник (I, 94, 206); Красс предпочитал сенатское красноречие, Антоний – судебное; Красс был выше всего в объяснениях и истолкованиях, Антоний – в нападении и опровержении; речь Красса отличалась величественным пафосом, речь Антония – сжатой силой; слог Красса был отделан до совершенства, между тем как Антоний полагался лишь на естественное чувство языка. В этих двух фигурах, своим сходством и различием превосходно дополнявших друг друга, Цицерон нашел идеальных героев своего диалога, поборника глубокой мысли и поборника блестящий силы. Образы этих ораторов, конечно, идеализированы Цицероном – он сам оговаривает, что их знакомство с греческой наукой для многих было весьма сомнительным (II, 1); но соотношение между двумя образами передано, по-видимому, верно. Вокруг этих двух главных персонажей диалога группируются остальные действующие лица. Прежде всего это пара младших ораторов, учеников и продолжателей Красса и Антония – Сульпиций и Котта. Во время диалога им уже по 33 года, и каждый из них уже известен как талантливый оратор, но в доме Красса они по-прежнему чувствуют себя начинающими учениками, ищущими у старших мастеров образца и совета. По их побуждению и для их наставления, собственно, и завязывается беседа об истинном ораторе. Это накладывает характерный римский отпечаток на весь разговор: диалог ведется не между равными, не между философами-теоретиками, в споре ищущими истину (как в греческом диалоге), а между старшими и младшими, между политиками-практиками, хранителями аристократической традиции, в беседе передающими свой опыт от учителей к ученикам. Из двух молодых людей Сульпиций более подражал изобилию и пафосу Красса, Котта – простоте и силе Антония. Позднейшая судьба их была различна. Сульпиций вскоре перешел от аристократов к демократам, был главным действующим лицом бурного марианского переворота 88 г. и пал одной из первых жертв Суллы. Котте удалось пережить (хотя и в изгнании) гражданскую войну, он мирно достиг консульства в 75 г. и умер на следующий год; он был неизменно дружен с молодым Цицероном, и именно на него ссылается Цицерон как на источник своих сведений о беседе Красса и Антония (I, 26) – обычная условность диалогического жанра. Если Сульпиций и Котта представляют в диалоге младшее поколение, то Квинт Муций Сцевола представляет старшее. Ему около семидесяти лет (он был консулом в 117 г.), и он служит как бы связующим звеном между поколением Красса и Антония и поколением Сципиона и Лелия: его жена – дочь Лелия, а его дочь – жена Красса. В семействе Сцевол наследственным было изучение права (I, 39, 165), и Сцевола выступает в диалоге как хранитель древних римских традиций, требующий от государственного деятеля прежде всего благоразумия и знаний и скептически относящийся ко всякому красноречию (I, 35-44). Однако и он хорошо знаком с греческой философией и помнит уроки Панэтия. Цицерон смолоду хранил живую память о Сцеволе и впоследствии повторил самый лестный отзыв о нем в "Бруте" (147-150). Сцевола выступает участником диалога только в I книге; затем он удаляется, но вместо него появляются два новых собеседника – Квинт Лутаций Катул и Гай Юлий Цезарь Страбон; Катул принадлежит к поколению Красса и Антония, Цезарь – к поколению Сульпиция и Котты. Катул, деливший с Марием консульство и победы над германцами, славился своим вкусом, греческой образованностью и изяществом речи; Цезарь, несмотря на молодые годы, был уже известен как несравненный мастер шутки и насмешки, и в диалоге он появляется, собственно, лишь затем, чтобы сделать род содоклада на эту тему. Дом Катула был центром кружка молодых поэтов, а Цезарь был сам поэтом и писал трагедии. Оба они, и старый и молодой, погибли в годы марианского террора. Ими заключается состав семи собеседников диалога "Об ораторе". Древность знала две разновидности в жанре диалога: диалог платоновского типа, состоящий из коротких реплик, которыми один из собеседников постепенно наводит другого на правильное решение проблемы, и диалог аристотелевского типа, состоящий из связных речей, в которых собеседники поочередно высказывают свое мнение о предмете спора. Диалоги Цицерона принадлежат каристотелевскому типу: действующие лица высказываются в них связно, пространно и многословно. Однако в диалоге "Об ораторе", первой цицероновской пробе нового жанра, забота о разговорной естественности все же присутствует: короткие речи чередуются с долгими, долгие перебиваются репликами и замечаниями, фиктивность диалога не обнажается так, как это будет в торопливо написанных философских сочинениях последних лет. Подражая Аристотелю, автор помнит и о Платоне. В начале диалога, выбирая место для беседы под платаном, собеседники ссылаются на "Федра" (I, 28); в конце, где предсказывается славное будущее начинающему Гортензию (III, 228-230), несомненна аналогия пророчеству об Исократе в том же "Федре" (место, которое Цицерон помнил и любил, видя в нем залог желанного союза философии с риторикой); общий тон разговора, происходящего за считанные дни до кончины Красса, напоминает читателям платоновского "Федона". Даже в более частных и случайных мотивах Цицерон старался брать пример с Платона: любопытное свидетельство об этом сохранилось в письме к Аттику (IV, 16, 3). Аттик удивлялся, что Сцевола, выступив в первой книге диалога, затем исчезает со сцены; Цицерон ему напоминает, что таким же образом в "Государстве" Платона старый Кефал, приняв Сократа, участвует лишь в первой беседе с ним, а затем уходит и не возвращается. "Платон, мне думается, счел неуместным заставлять человека таких лет участвовать дольше в столь длинной беседе. Я полагал, что мне следует еще того более остерегаться этого по отношению к Сцеволе: и возраст его и здоровье, как ты помнишь, и высокое положение были таковы, что для него едва ли было достаточно пристойным жить много дней в тускуланской усадьбе Красса. Беседа, помещенная в первой книге, не была чужда занятиям Сцеволы; прочие же книги, как тебе известно, говорят о ремесле. Я совершенно не хотел, чтобы этот старик, любитель шутки, которого ты знал, принимал в этом участие". Последние строки приведенного отрывка указывают на еще одну особенность диалога "Об ораторе" – на его композицию. Цицерон отличает первую книгу диалога, где вопрос об истинном красноречии ставится во всей его философской широте, и две последние книги, где речь идет лишь об отдельных сторонах ораторского искусства (Цицерон пользуется греческим термином: τεχνολογία, ремесло). В первой книге Красс и Антоний выступают попеременно, завязывая спор, во второй – Антоний рассуждает о нахождении, расположении и памяти, в третьей – Красс говорит о словесном выражении и о произнесении. Последнее слово, таким образом, остается за Крассом. Для Цицерона такая композиция имеет особый смысл. Его целью было подвести римских читателей к образу идеального оратора – философа и политика в одном лице. Делать это надо было осторожно: слишком нереальным должно было казаться римским практикам такое сочетание. И Цицерон искусным приемом завоевывает внимание публики. В первой книге он выводит не один, а два идеала и сталкивает их между собой в споре Красса и Антония: идеал философский и практический, греческий и римский, крассовский и антониевский. А затем, во второй и третьей книгах, он постепенно сближает эти две враждебные точки зрения и подробным раскрытием взглядов сперва Антония, а потом Красса показывает, что в действительности обе крайности сходятся, и подлинный идеал красноречия оказывается одним и тем же в понимании обоих спорящих. В первой книге приближение к теме совершается в три приема. Раньше всего – еще во вступлении, до начала диалога – Цицерон от собственного лица ставит вопрос, почему красноречием занимаются столь многие, а достигают в нем успеха столь немногие? – и сам на него отвечает: потому что красноречие – труднейшее из искусств, так как требует от оратора знаний сразу по многим наукам, из которых каждая и сама по себе уже значительна (I, 6-20). После этого возникает второй вопрос: в чем же это истинное величие красноречия? Красс произносит краткую, но яркую похвалу красноречию в самом высоком плане: это высшее проявление человеческих сил, основа общественного и частного благосостояния и т.д. (I, 30-34). Эта речь вызывает возражения Сцеволы и Антония: Сцевола указывает, что политика может обходиться и обходится без красноречия (I, 35-44), Антоний напоминает, что философия также отвергает красноречие и даже отрицает за ним имя науки (I, 80-95). Тогда Красс произносит вторую речь, в которой идет на уступки: он уже не настаивает на образе оратора-мыслителя, который царит над всеми науками, придавая им совершенство своим красноречием, но выдвигает образ оратора-политика и правозащитника, который знаком со всеми науками и в случае необходимости черпает из них материал для своих речей (I, 45-73). Однако Красс не противополагает эти образы один другому, в его речи они все время подменяют друг друга, переливаются друг в друга, выдвигая на первый план то те, то другие черты; недаром Сцевола с улыбкой отвечает ему: "Ты, Красс, сумел какой-то уловкой и уступить и не уступить мне те свойства, которые я оспаривал в ораторе". Этот двоящийся образ идеального оратора, возникающий в речи Красса, как бы предвещает тот синтез теоретических и практических требований к оратору, каким явится все сочинение "Об ораторе". Но сейчас, в начале диалога, этот обрисованный Крассом образ служит лишь поводом для завязки – для открытого столкновения мнений Красса и Антония об ораторском искусстве. Материалом для столкновения мнений служит естественно возникающий третий вопрос: каковы должны быть качества истинного оратора и как они приобретаются? Первым выступает Красс. Сначала он говорит о трех элементах традиционной подготовки оратора – дарование, обучение, упражнение (I, 107-159). Затем, в ответ на просьбу подробнее остановиться на более высоких требованиях, т.е. на [с.42] знакомстве оратора со всеми науками, он для примера выбирает право и подробно показывает, что знание права для оратора необходимо, интересно и почетно (I, 166-203). Разработка права была национальной гордостью римлян, и Цицерон разумно рассчитывал, что сочувствие читателей он скорее всего завоюет, заступаясь за право, изгоняемое греческими риторами из школьного обучения. На всю эту длинную речь Красса тотчас же возражает такой же развернутой речью Антоний (I, 207-262). Он сразу противопоставляет крассовскому представлению об ораторе, который заключает в себе познание всех наук и искусств, свое собственное представление: оратор – это человек, умеющий в суде и собрании пользоваться приятными словами и убедительными мыслями. А затем он последовательно утверждает, что красноречие и политика, красноречие и философия, красноречие и правоведение – вещи разные; что политик не обязан быть оратором, философия несовместима с практической жизнью, в правоведении достаточно следовать советам знающих друзей; и наконец, что весь объем знаний, рекомендуемых Крассом, недоступен для одного человека, в особенности для такого занятого человека, как оратор. Цель оратора – убеждать речью, и он должен не отвлекаться, а сосредоточиться на этом искусстве. Речь Антония стройна и убедительна: видно, что всем своим рассудком Цицерон был с Антонием, как всем своим чувством – с Крассом. Сопоставление двух точек зрения настолько контрастно, что лучшей завязки для диалога не приходится желать: собеседники расходятся с твердым намерением возобновить разговор на следующий день. Этот возобновленный разговор займет остальные две книги. Но уже здесь, в финале первой книги, в момент наивысшего напряжения спора, неожиданно звучит ироническая реплика Красса, предугадывающая его мирный исход: "Боюсь, Антоний, что не истинное свое мнение ты излагаешь, а только упражняешься в опровержении чужого, как ораторы и как философы!" В самом деле, уже в первой книге выясняется одна важная общая черта взглядов Красса и Антония – их отношение к вопросу, разделявшему философов и риторов: является ли риторика наукой? Философы утверждали, что риторика не есть наука, риторы утверждали обратное; Красс предлагает компромиссное решение: риторика не есть истинная, т.е. умозрительная наука, но она представляет собой практически полезную систематизацию ораторского опыта; и Антоний соглашается с таким пониманием (I, 107-110). А это позволяет обоим собеседникам застраховать себя от критики со стороны философов и самим сосредоточиться на критике школьных риторов с их уверенностью в незыблемой научности преподаваемых предписаний. Эта общность критического взгляда на школьную риторику и становится почвой для сближения и слияния мнений Красса и Антония об истинном ораторе. Начало критике школьных догм кладет Красс: в своей характеристике трех элементов ораторского образования – дарование, обучение, упражнение – он искусно подменяет понятие "обучение" (ars) понятием "рвение" (studium) (I, 133-135), а перечислив (нарочито упрощенно) основные предписания риторической школы, заключает, что все они не создают искусственного красноречия, а лишь развивают природное (I, 146). Антоний, отвечая Крассу, ни словом не возражает против такого подхода, а в своей речи о нахождении, занимающей большую часть второй книги, развивает те же мысли еще дальше. Речь Антония во второй книге начинается пространной и эффектной похвалой красноречию (II, 28-38): это до известной степени параллель той речи Красса, с которой начиналась первая книга, и хотя Красс прославлял слово скорее как средство познания, а Антоний – как средство убеждения, сходство между двумя речами таково, что вызывает новое ироническое замечание Красса и честный ответ Антония: "вчера я говорил, чтобы поспорить с тобой, сегодня говорю то, что думаю". Вслед за этим Антоний приступает к изложению своих взглядов на нахождение материала, все время противопоставляя их взглядам школьной риторики. Говоря о видах красноречия, он указывает, что нецелесообразно к судебному и политическому красноречию приравнивать малопрактичное хвалебное (II, 47); говоря о разделах речи, он замечает, что требования ясности, выразительности и пр., относясь ко всей речи, относятся ко всем ее разделам в равной мере, так что неразумно ограничивать применение пафоса – заключением, а требование краткости и ясности – повествованием и т.п. (II, 79-83, ср. 326); говоря о приобретении опыта, осуждает школьные упражнения с фиктивными казусами, всегда более легкими и примитивными, чем в действительности (II, 100); говоря о нахождении, критикует излишний педантизм в трактовке спорного пункта и излишнюю мелочность в классификации доводов (II, 108-109, 117-118) и т.д. Вслед за Крассом Антоний подчеркивает значение природного таланта и добросовестного рвения в начинающем ораторе; для риторической "науки" в собственном смысле слова остается лишь узкое пространство между "дарованием" и "рвением" (II, 150). Больше того, Антоний пытается заменить в риторической системе роль "обучения" ролью "подражания" и систему правил системой образцов (II, 90-98) – здесь он удачно применяет против риторов их же оружие: подражание классикам было давним средством риторического образования, но в системе школьных наставлений оно никогда не могло найти твердого места. Все эти рассуждения сопровождаются непрерывными напоминаниями о чисто практической и чисто римской точке зрения говорящего, в противоположность суесловию греческих учителей; иллюстрацией этого противоположения должен служить остроумный анекдот о Ганнибале и Формионе, вставленный в начальную часть речи (II, 75-76). В противовес школьным тонкостям, Цицерон выдвигает в речи Антония два общих понятия, определяющие суть двух главных аспектов красноречия: "общий вопрос" (θέσις ) для логического аспекта, "уместность" (πρέπον ) для эмоционального аспекта. С понятием общего вопроса мы уже знакомы – его появление в риторике связано, по-видимому, с именем Филона или его предшественников; понятие "уместности" бытовало в риторике, по крайне мере, со времен Феофраста, но особенную широту и глубину оно получило в стоической философии Панэтия, откуда его и усвоил Цицерон. Впрочем, подробного развития эти два понятия в речи Антония еще не получают. Общий вопрос упоминается здесь лишь с практической точки зрения – как средство заменить многочисленные и дробные доводы "от частностей", разрабатываемые по риторической системе, немногими и связными доводами "от целого", извлекаемыми из общего вопроса (II, 133-141). Понятие уместности служит здесь лишь для того, чтобы ввести рассуждения о страстях, возбуждаемых речью (II, 114, 186, 205 и др.). Раздел о возбуждении страстей изложен Цицероном с особенной подробностью: важность его была общепризнанна, но в логические схемы риторов он укладывался плохо, и Цицерон пользуется случаем показать превосходство своего подхода к красноречию. Наиболее обстоятельно говорится о юморе и остроумии – материале, наименее поддающемся логическому схематизированию (II, 216-217): здесь Антоний передает слово Цезарю, известному мастеру шутки, и тот держит об этом длинную речь, пересыпанную многочисленными примерами (II, 216-290). Цицерон сам славился остроумием и знал, что такого рода отступление в его трактате вызовет широкий интерес. А в общей композиции второй книги этот раздел создает приятное разнообразие, облегчая Цицерону завершение книги малооригинальными замечаниями о диспозиции, о несудебных родах речи и о памяти. Таким образом, почти вся цицероновская программа новой риторики, и положительная и отрицательная, оказывается изложенной в речи Антония и представленной как вывод из самых практических и самых традиционно-римских соображений деловитого оратора. Противоречие между этой практической программой и той теоретической программой, которую в начале сочинения вызывающе излагал Красс, оказывается мнимым. Крассу остается только поставить все точки над "и", наметив за риторическими положениями Антония глубину философской перспективы. Это и делается в третьей книге диалога. Третья книга по плану беседы должна заключать речь Красса о словесном выражении и о произнесении речи – самых важных для оратора предметах. В действительности эта тема дважды перебивается обширными отступлениями, в общей сложности занимающими около трети всей книги. В этих отступлениях сосредоточен главный интерес Цицерона. Первое отступление рисует общую картину отношений между риторикой и философией (III, 56-108): их первоначальное единство, последующее разделение, отношение отдельных философских школ к красноречию и необходимость для красноречия обращаться к философским образцам. Второе отступление (III, 120-143) раскрывает прообразы желаемого синтеза красноречия и философии: среди теоретиков – это софисты, среди практиков – в Риме Катон, в Греции великие народные вожди от Солона и Писистрата до Перикла и Тимофея. Так перед уже подготовленным читателем раскрывается, наконец, конечная цель всей риторико-политической программы Цицерона. Что эта цель трудно достижима, автор не скрывает: на всем протяжении речи Красс не устает напоминать, что он говорит об идеальной цели, достигнуть которой может лишь идеальный оратор (III, 54, 74, 83, 90). Впрочем, Цицерон заботливо смягчает решительность этих заявлений, тут же заставляя собеседников восклицать, что он, Красс, и есть живое воплощение такого идеального оратора (III, 82, 126-131, 189). Красс отклоняет эти комплименты, но по существу и он допускает появление такого истинного оратора, если в нем осуществится идеальное сочетание ораторского дарования с философской образованностью (I, 79, ср. 95). Почти не может быть сомнений, что Цицерон, вкладывая это пророчество в уста Красса, имел в виду самого себя. Однако, разумеется, открыто об этом нигде не сказано, и даже в концовке сочинения для намека на дальнейшее совершенствование римского красноречия упомянуто лишь имя Гортензия. Совпадение мыслей Красса о риторике с мыслями Антония подчеркивается тем, что оба важнейших понятия второй книги – "общий вопрос" и "уместность" – возникают и в третьей книге: уместность – как одно из четырех феофрастовских требований.
МИФОЛОГИЯ



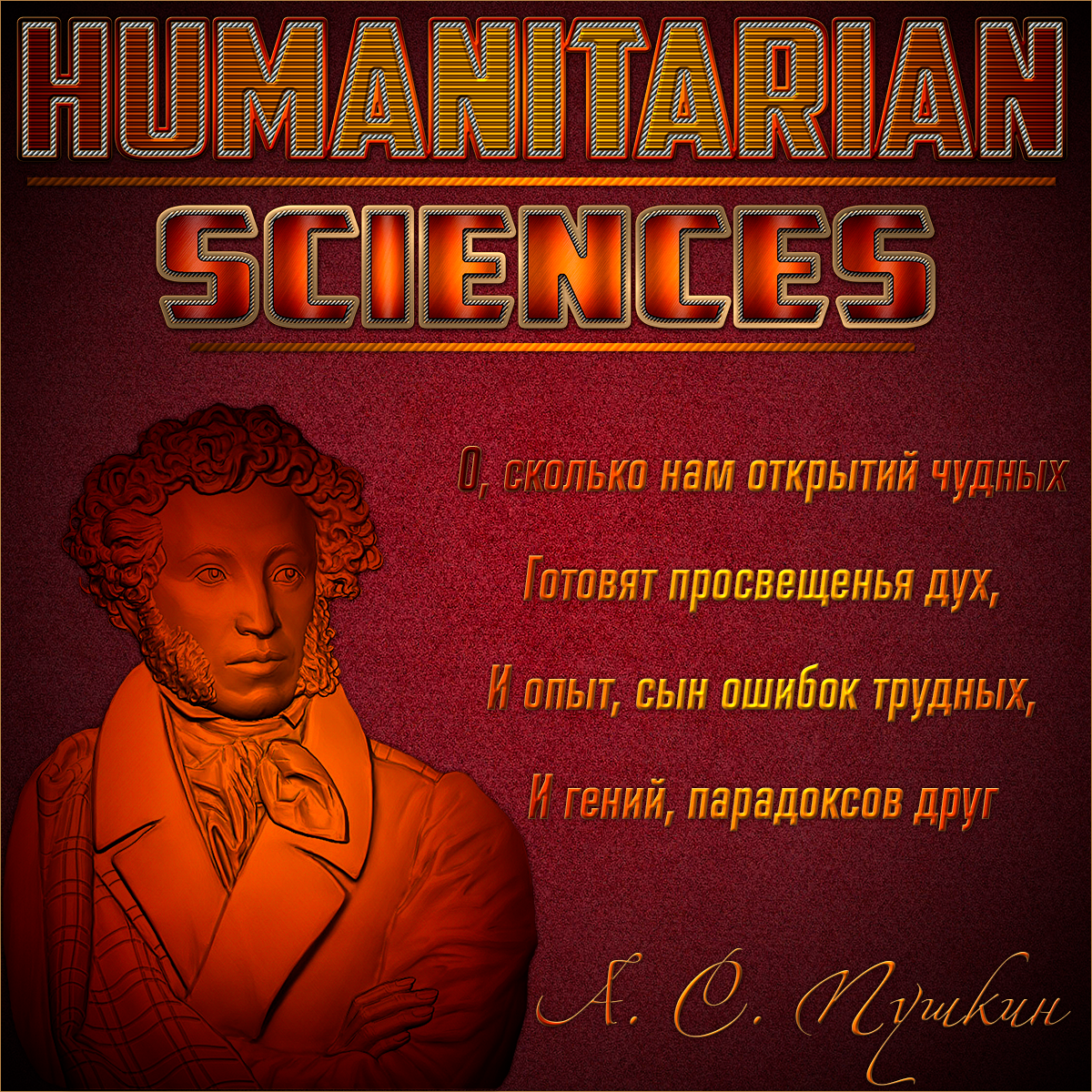











НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ


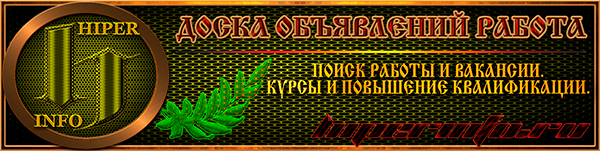

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT



















Теги
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
