- 1409 Просмотров
- Обсудить




ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
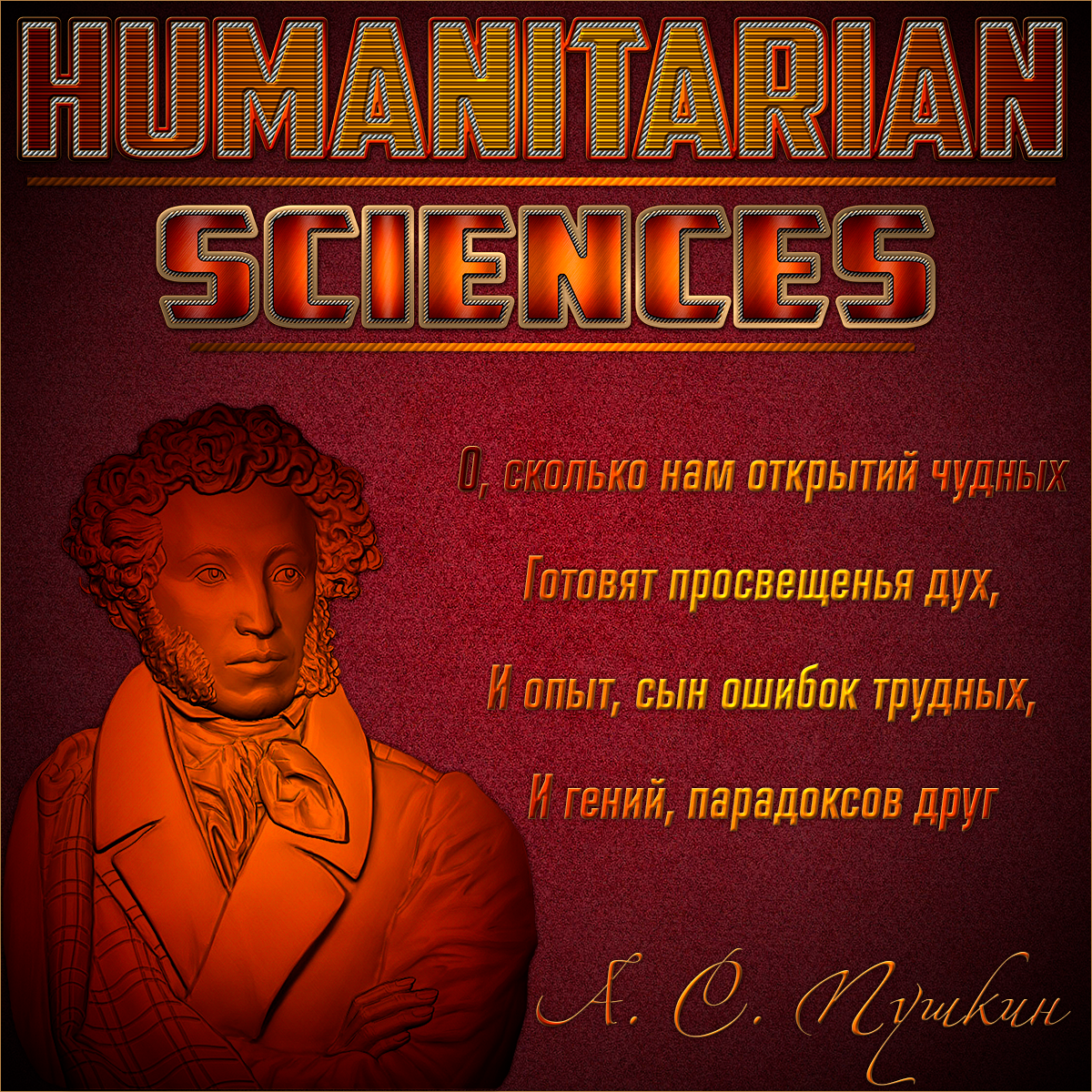








 ХРИСТИАНСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ХРИСТИАНСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ХРИСТИАНСТВО (от греч. Χριστός, букв. – помазанник) – одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Возникло в 1 в. в Палестине и первоначально распространялось в среде еврейства средиземноморской диаспоры, однако уже в первые десятилетия получало все больше последователей среди "язычников", т.е. неевреев. Постепенно т.н. иудео-христианство, т.е. X., остававшееся только "ересью" внутри иудаизма, сошло на нет (к 5 в.), и евреи, первые носители X., в конце концов остались единственным нехрист. народом среди христ. мира. До 5 в. X. распространялось гл. образом в географич. пределах Римской империи, а также в сфере ее политич. и культурного влияния (Армения, вост. Сирия, Эфиопия). После отпадения несторианста (с 431; в наст. время сохранилось лишь в нек-рых районах Ирана) и монофизитства (с 451; в наст. время исповедуется коптской церковью Египта, яковитской церковью Сирии и Ливана, эфиопской и армяно-григорианской церквами) азиатское и егип. X. организационно обособляется от грекоязычных и латиноязычных церквей Европы. В Европе X. покидает пределы Средиземноморья и завоевывает герм. и слав. "варваров": в 4 в. были обращены готы (принявшие первоначально арианство), в нач. 8 в. Бонифаций развертывает широкую миссионерскую деятельность в Германии, в 9–10 вв. происходит христианизация слав. народов, и к 13 в. вся Европа оказывается христианской. Европ. X. в результате "схизмы" (разделения церквей), датируемой 1054, но на деле составившей содержание многовекового процесса, раскололось на два вероисповедания – православие и католицизм; из последнего в ходе Реформации в 16 в. выделился протестантизм, в свою очередь разделившийся на три осн. направления – евангелическое (лютеранское), реформатское (кальвинистское) и англиканское; к ним надо добавить множество больших и малых сект. Католицизм упрочился в романских странах (кроме Румынии) и в Ирландии, православие – в слав. странах (кроме Польши и Хорватии, где утвердился католицизм), в Греции и Румынии, протестантизм – в германско-скандинавских странах (кроме католич. Австрии и Баварии). Постепенное открытие и завоевание земного шара для европ. бурж. цивилизации сопровождалось развитием миссионерства. В Америке к региону протестантизма прибавляются США, к региону католицизма – Лат. Америка и отчасти Канада. Проникновение X. в неевроп. страны привело к возникновению необычных для X. форм религ. культа и мировоззрения (напр., в Индии или Японии). В наст. время последователи X. есть во всех обитаемых частях света; их общее число приблизительно определяется зарубежной статистикой в 700–800 млн. чел., в т.ч. приверженцев католицизма – ок. 500 млн., православия – ок. 150 млн., евангелич. исповедания – ок. 77 млн., реформатского – ок. 47 млн., англиканского – ок. 43 млн. При рассмотрении идейной структуры X. необходимо прежде всего иметь в виду, что X. есть, во-первых, разновидность теизма, наравне с иудаизмом и исламом одна из т.н. авраамитических религий, уходящая своими корнями в мир Ветхого Завета: бог X. – это единый, "живой" и личный "Бог Авраама, Исаака и Иакова" (Еванг. от Матфея, 22, 32). Во-вторых, X. есть типичная религия спасения, что типологически сближает ее с такими религ. системами, как буддизм: единичная человеческая душа для X. дороже, чем весь природный космос (ср. там же, 16, 26). X. доводит до логич. предела центр. идею теизма – личностное понимание абсолюта. Это выражается в двух осн. догматах X., составляющих его специфич. отличие от др. теистич. религий (иудаизма и ислама), – в догмате троичности и в догмате боговоплощения. Согласно догмату троичности, единая божеств. сущность есть внутри себя личностное отношение трех "ипостасей" – Отца (безначального первоначала), Сына (Логоса, т.е. абс. смысла) и св. Духа ("животворящего" начала жизненной динамики). Однако само по себе учение о "триединстве" божества (т.е. о том, что в божеств. мире троица и единица оказываются в каком-то смысле тождественными) не составляет специфики X.: это – один из самых устойчивых и распространенных мотивов мифологии и религии (ср. тримурти – триединство Брахмы, Шивы и Вишну – в индуизме, трехликую Гекату и менее известного трехглазого Зевса, тождественного собств. братьям Посейдону и Аиду, – в греч. мифе, "семейные" троицы Юпитер – Юнона – Минерва и Церера – Либера – Либер в рим. культе). Специфичность X. состоит в том, что ипостаси христ. троицы – это не взаимозаменимые двойники или маски единой безличной стихии, оборачивающейся, напр., то светлым, то темным Зевсом и т.п.; эти ипостаси "неслиянны", т.е. безусловно сохраняют личностное самостояние, но именно в качестве личностей "нераздельны" и "единосущны", т.е. абсолютно прозрачны и проницаемы друг для друга в единящей любви. Их единение не есть слитность, неразличенность, как бы слепленность трех лиц, еще слабо вычленившихся из родовой бессознательности политеистич. божеств. коллектива (так "слипаются" между собой образы трех мойр, трех парок, трех норн и т.п.). Напротив, они проницаемы друг для друга только благодаря абс. личностному самостоянию и сохраняют самостояние только благодаря абс. личностной прозрачности и взаимо- проницаемости, ибо эта проницаемость есть чисто личностное отношение – "любовь", к-рая и составляет внутр. сущность христ. бога. Аналогией этой любви на низших ступенях иерархии бытия оказывается любовь между человеч. "ипостасями", человеч. личностями. Эта любовь понята не как "эротич. необходимость" Платона, подобная внеличной силе тяготения, но как христ. любовь – ἀγάπη, т.е. жертв, воля к полной самоотдаче и разомкнутости. Различие между троицами язычества и троицей X. – это различие между взаимопереходом стихий и взаимоотражением личностей, между двойничеством и диалогом. Троица в X. не есть и последовательность нисходящих ступеней абсолюта, какова триада неоплатонизма ("единое" – "нус" – "душа"): отношение любви требует безусловного равенства ("равночестности") участвующих в нем личностей. Разумеется, это отличие христ. догмата о троице от аналогичных структур языч. мифологии и неоплатонич. спекуляции не нужно абсолютизировать, когда мы рассматриваем историч. реализации догмата в бытовой религиозности, с одной стороны, и в христ. религ. философии – с другой. Бытовое X. (нар. верования, вульг. иконография и т.п.) часто усваивало языч. понимание триединства как полуслитости и полуразделенности (напр., нек-рые неканонические католич. и правосл. изображения троицы представляют ее в виде трех ликов, каждый из к-рых имеет одну сторону – одну щеку и глаз – общий с соседним), а филос. спекуляция по поводу догмата троицы часто перенимала мыслит. ходы неоплатонизма (напр., лат. христ. мыслитель 4 в. Марий Викторин видит в трех ипостасях "пребывание, вырождение из себя, возвращение в себя" – т.е. 3 этапа диалектич. самодвижения единого, см. Маr. Victor, hymn., III, 71–74). Однако это не устраняет принцип, отличия христ. троицы от к.-л. нетеистич. религ.-мифологич. и филос. представлений, сближение с к-рыми наблюдается лишь на периферии X. Онтологич. характеристика отд. ипостасей такова: "безначальная" первая ипостась – безмолвствующая праоснова чистого бытия; "порождаемая" ею (не во времени!) вторая ипостась – "Слово" этого безмолвия, логос, смысловое оформление бытия; третья ипостась – "животворная" встреча безмолвия и слова, начало любви; в православии она мыслится исходящей от первой ипостаси как единств. бытийственной основы двух др. ипостасей, в католицизме – от первой и второй ипостасей. Поскольку третья ипостась включает в себя момент металогич. динамики, она часто рассматривается как принцип воления, в отличие от второй ипостаси как принципа разумения. Три ипостаси участвуют в сотворении и бытии космоса по след. формуле: все от Отца (ибо наделено от него бытием), через Сына (ибо вошло в бытие через его смысловую оформленность) и в Духе (ибо удерживается от распада внутри его жизненно-органической целостности). Нередко предпринимались попытки (чаще всего в еретич. или полуеретич. кругах) построить историософское учение, основанное на догмате троичности (трехчастное разбиение мировой истории у Иоахима Флорского и др.). В христ. философии – начиная с патристики – распространены аналогии между тремя ипостасями божества и тремя грамматич. лицами (завершение Я и Ты в Он), тремя способностями души (памятью, мыслью и любовью), тройственным делением времени на прошедшее, настоящее и будущее и т.д. Николай Кузанский построил на основе догмата троичности геометрически оформленную диалектику бесконечности и целого – части (см. De doct. ignor. I, 14–15). Однако традиция диалектич. конструирования троицы, оказавшая влияние на представителей нем. классич. идеализма (ср. Е. Benz, Hegels Trinitätslehre, Marburg, 1923), характеризует скорее христ. философию, нежели X. как таковое: для последнего личностная структура троицы важнее ее логич. структуры. Персоналистич. понимание абсолюта завершается в X. парадоксом "вочеловечения" бога, по к-рому Иисус Христос совмещает в личностном единстве всю полноту как человеч., так и божеств. природы: согласно тексту "Quicumque", "хотя Он есть Бог и человек, однако не двое, но единый Христос, однако единый не через обращение божества в плоть, не через приятие человечества в Бога, вообще единый не через смешение сущностей, но через единство лица" (Denzinger H., Enchiridion symbolorum, 12 Aufl., Freib., 1913, S. 19). Специфика X. состоит не в учении о сверхчеловеч. посреднике между земным и небесным планами бытия: такой образ известен едва ли не всем религ. системам. Уже язычество знает различные варианты "полубога" (греч. ἡμίθεος); "божеств. мужа" (греч. ϑεῖος ἀνήρ), "человекобога" (греч. ἀνήρ ϑεός у Пиндара) - от архаич. богатырей типа Геракла до боготворимых мудрецов типа Пифагора и Аполлония Тианского и боготворимых государей типа фараонов или цезарей. Бодисатвы в буддизме сходны с христ. воплощающимся Логосом тем, что они также "предшествуют" в высших планах бытия до своего земного рождения. Однако Христос не есть полубог, смешение полубожественности и получеловечности; воплотившийся в Христе бог-Логос (вторая ипостась) мыслится не как "низший" или "меньший" бог, не как низший уровень божеств. сущности, но как лицо абсолюта, равное двум др. лицам: "в Нем обитает вся полнота Божества телесно" (посл. ап. Павла к колосс, 2, 9). Именно по этой причине боговоплощение понимается как единократное и неповторимое, не допускающее к.-л. перевоплощений, вечных возвращений и др. атрибутов языч. и вост. мистики: "Единожды умер Христос за грехи наши, а по воскресении из мертвых более не умирает!" – таков тезис, отстаиваемый Августином против пифагорейской доктрины (August, de civit. Dei, XII, 14, 11, p. 532 Dombart). Это повышает остроту парадокса: абс. бесконечность божества полностью осуществляется не в разомкнутой череде частичных воплощений, но в единократном воплощении, так что его вездесущность оказывается вмещенной в пределы одного-единственного человеч. тела (в противовес этому монофизиты и позднее Лютер создают учение о мистич. вездесущии самого Христова тела, находящее соответствие в буддизме), а его вечность – в неповторимый историч. момент (историч. датировка настолько важна для метафизики X., что вошла в Никейско-Константинопольский символ веры – "...распятого же за ны при Понтийстем Пилате..."!). Попытки сгладить остроту парадокса предпринимались не раз, но всякий раз расценивались как еретические. Так, арианство отрицает равенство воплотившегося Логоса Отцу и тем самым его абсолютность; несторианство рассматривает бога Логоса и человека Иисуса как две сущностно различные величины, а путь человека Иисуса – как путь постепенного совершенствования, аналогичного пути "божеств. мужей" язычества; наконец, аполлинаризм и монофизитство, напротив, говорят о полном поглощении божеств. природой Логоса человеч. природы Христа. Вдвойне парадоксальная формула Халкидонского собора (451): "неслиянно и нераздельно", – дает, в сущности, универсальную для X. схему отношений божественного и человеческого, трансцедентного и имманентного. Др.-греч. философия разработала представление о не-страдательности, не-аффицируемости божеств. начала, к-рому в этике соответствует атараксия стоиков. X. заимствует у греч. идеализма это представление, но мыслит эту не-страдательность присутствующей в страданиях Христа на кресте, невозмутимо-неизменное божеств. бытие – в "смертельно скорбящей" душе Христа, молящегося в Гефсиманском саду об отмене своего неотменяемого удела. Божеств. слава Христа мыслится реальной не над его человеч. унижением, но внутри него. Поэтому универсальная форма христ. мышления и восприятия – символ, не смешивающий предмет и смысл (как это происходит в язычестве) и не разводящий их (в духе дуалистич. мистики или рационализма), но дающий то и другое "неслиянно и нераздельно". Схождение потустороннего – в посюстороннее, смысла – в предмет, бога – в мир людей есть "кеносис" (греч. κένωσις – "опустошение", "уничижение"). Сама эта идея выявляется во многих спиритуалистич. системах; для X. важно то, что оно понимает "кеносис" не как непроизвольное растекание эманирующей духовной субстанции или столь же непроизвольное диалектич. саморазвертывание духа (как в системах типа неоплатонизма) и не как недолжное падение духовного начала (как в системах типа манихейства), но как свободный акт любви и смирения со стороны божества, дающий безусловную этич. норму для человеч. самоопределения в мире (см. 3 посл. Иоанна, 4, 10–11; посл. ап. Павла к филипп., 2, 5–8). Здесь аналогию христ. богочеловеку представляет только буддийский бодисатва, добровольно выходящий из своего бесстрастия к людям, чтобы сострадательно помочь им. Но Христос разделяет не только общие естеств. условия человеч. существования, но и специально самые неблагоприятные социальные его условия. Будда приходит в мир в царском дворце, Христос – в стойле для скота (Еванг. от Луки, 2, 7); Будда тихо и торжественно умирает на своем ложе, Христос претерпевает казнь. В своем качестве казненного праведника Христос Евангелий сопоставим с Сократом "Апологии" Платона; но если Сократ своим социальным положением свободного афинского гражданина гарантирован от грубого физич. насилия и его "красивая" смерть от чаши с цикутой излучает филос. иллюзию преодоления смерти силой мысли, то Христос умирает "рабской" смертью, претерпев "жесточайшее и омерзительнейшее истязание", как называет крест Цицерон (Cic. in Verrem, V, 66, 165), после бичевания, пощечин и плевков (эти черты страдальчества и незащищенности были отчасти предвосхищены в образной системе Ветхого завета – ср. мотивы терзаний праведника в псалмах и особенно фигуру отверженного людьми "раба Йахве" в кн. Исайи, гл. 53). Мало того, "кеносис" бога в Христе заходит так далеко, что он и в собств. душе в решающий момент лишен защищающей стоич. атараксии и предан жестокому борению (Еванг. от Луки, 22, 44) со страхом смерти и тоской богооставленности (в отличие от всех идеализированных мудрецов, мифологич. героев и т.п. типов сверхчеловека Христос свободен от страданий не в том смысле, что он ничего не боится, а только в том, что он никого не боится, т.е. сохраняет чисто этич. свободу и независимость). Именно это вызывало резкую критику языч. оппонентов X. (например, Кельса), правильно усмотревших здесь психологию социально отверженного человека, лишенного всех обществ. гарантий. Ситуация человека мыслится в христ. антропологии крайне противоречивой. Изначально человек есть носитель "образа и подобия" бога и постольку сам есть как бы бог; X. отнесло к людям слова псалма: "Я сказал: вы боги" (пс. 81, 6, см. Еванг. от Иоанна, 10, 34). Однако "грехопадение" разрушило богоподобие человека, обратив его в свою противоположность, после чего и стало метафизически необходимым боговоплощение: "Как войдет человек в бога, если бог не войдет в человека?" – вопрошает Ириней Лионский (3 в.). Этим была создана предпосылка для "обóжения" человека (см. Эсхатология), чье существование мыслится как бы "открытым" вертикально, в направлении бога (поэтому трансцендентные возможности человеч. природы непредставимы: "Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем", 1 посл. ап. Иоанна, 3, 2). Схождение бога к человеку есть одновременно требование восхождения человека к богу; прорыв естеств. миропорядка со стороны бога есть вызов, обращенный к человеку, от к-рого ожидается такой же прорыв силой его "выше чем человеческого" поведения (Фома Аквинский, III Sent., 34, I, 1 С; о теме ."сверхчеловека" в христ. мысли – см. Е. Benz, Der Übermensch, Ζ.–Stuttg., 1961, S. 21–161). Однако трансцендентное достоинство человека остается на земле скорее сокровенной возможностью, чем наглядной реальностью: во-первых, свободная воля человека способна отвергнуть божеств. дарение и разрушить себя самое, во-вторых, если человек и делает "правильный" выбор, его исход за пределы этого мира осуществляется лишь на мистич. уровне его бытия и лишен к.-л. наглядности – он доступен всем страданиям мира не меньше, а больше, чем люди "от мира сего". Больше того, он не защищен и от мучений духа – от искушений, внутр. унижения, самообвинений; христианину решительно запрещено в к.-л. ситуации считать себя абсолютно правым, и X. создает поистине виртуозную культуру усмотрения собств. виновности (напр., в "Исповеди" Августина). Именно в критич. состоянии полной утраты уверенности в своих силах вступает в действие "благодать": "сила Божия в немощи совершается" (2 посл. ап. Павла к коринф., 12, 7). "Ибо бог, – восклицает Лютер, – есть бог униженных, страдающих, истерзанных, угнетенных и тех, кто совершенно обращены в ничто, и природа его в том, чтобы возвышать униженных, насыщать голодных, просвещать слепцов, утешать страдающих и истерзанных, оправдывать грешных, животворить мертвых, спасать отчаявшихся и осужденных и т.д. Ибо он есть всемогущий Творец, из ничего творящий все" (M. Lutheri ad Galat. II. 70). Чтобы обрести спасение, человек призывается усмотреть в самом себе ничто и в акте смирения раскрыть это ничто богу, предоставив ему творить из ничего "духовные дары", как он сотворил из ничего мир. Для христ. сознания всякое наглядное благополучие человека только оттеняет его метафизич. унижение и, напротив, всякое наглядное унижение может служить желанной фольгой для сокровенной прославленности (см. Посл. ап. Иакова, 1, 9–10). Отсюда характерный для ср.-век. X. культ добровольного нищенства, юродства, молчальничества, затворничества и т.п. "Сокрушение сердечное", "сладостный плач" так же характерны для психологии X., как ритуальный смех или ритуальный вой – для психологии язычества, а отрешенная улыбка бодисатв – для психологии буддизма (в новое время христ."сокрушение" перерождается в более буржуазную "нравств. серьезность", особенно характерную для протестантизма). Желательное ст. зр. X. состояние человека в этой жизни – не духовная анестезия, не спокойная безболезненность стоич. или буддийского мудреца, но, напротив, "сердце болезнующее", напряжение борьбы с собой и страдания за других. Древнерус. богослов Иосиф Волоцкий сравнивает человеч. мысль с водой: в непринужденном и беззаботном состоянии она растекается, а стесненная горем и заботой поднимается в высоту (см. Н. А. Казакова и Я. С. Лурье, Антифеод. еретич. движения на Руси XIV – нач. XVI века, 1955, с. 352). Однако эта вовлеченность в происходящее мыслится относящейся только к духовно-этич. плоскости любви, сострадания и самоосуждения, но не к вещному плану бытия, к к-рому относится новозаветная формула: "иметь, как бы не имея". Так в христ. сознании сочетаются посюсторонность и потусторонность. По формуле визант. теолога Максима Исповедника (ум. 662), к жизни следует относиться не чувственно и не бесчувственно, но со-чувственно (Max. Confes., Mystagog. 24, Migne, PG, t. 91, col. 716A) – формула единения с миром в любви и ухода от мира в аскезе как этич. коррелят догматич. "неслиянности и нераздельности". Любовь, к-рая в X. онтологически осмысляется как сущность божества ("Бог есть любовь" – 1 посл. ап. Иоанна, 4,8) и в этич. плане предписывается человеку как высшая заповедь, составляет также основу христ. социальной утопии, контуры к-рой существенно менялись от времен Иоанна Златоуста до совр. христианского социализма и левых группировок католич. движения (см. такжеМодернизм в религии), но религ.-этич. структура оставалась прежней. Речь идет о том, чтобы каждый член общества из любви принял бы всю социальную дисгармонию на себя и этим самым отменил, "искупил" бы ее. Но для этого требуется христ. любовь – ἀγάπη, не делящая людей на своих и чужих, па друзей и врагов, "не ищущая своего" (1 посл. ап. Павла к коринф., 13, 5), – тождество предельной самоотдачи и предельной отрешенности (см. Еванг. от Матфея, 5, 43–44). В своей широте ἀγάπη даже переходит пределы этики, ибо прекращает деление людей на "хороших" и "дурных": за образец принимается стихийное действование бога, к-рый "повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных" (там же, 45). Это предполагает отрешение от любви как личной заинтересованности, от любви к себе и к "своему" в других, что выражается в парадоксальном требовании "возненавидеть" своих родных и самую жизнь свою (Еванг. от Луки, 14, 26), т.е. в требовании самопреодоления. По словам рус. богослова, "заповедь о любви не есть расширение естественной любви к своим, но имеет своею обратного стороною заповедь о ненависти к своим" (Тареев Μ. Μ., Христ. мировоззрение, 3 изд., Сергиев Посад, 1908, с. 113). X. ставит на место принадлежности к нек-рому национальному, этническому, семейному или иному "организму", на место укрытости под "кожей" этого коллективного организма – идеал все-открытости, достигаемой через отрешенность. В любом человеч. коллективе христиане – "пришельцы и странники" (1 посл. ап. Петра, 2, 11); они, как говорит анонимный раннехрист. памятник "Послание к Диогнету", "имеют жительство на земле, но гражданство на небесах" (там же, с. 5); "не имеем здесь постоянного града, но взыскуем грядущего" (посл. к евреям, 13, 13–14). Более резкую противоположность антич. идеалу гражданственности трудно себе представить. Это настроение сопоставимо с приписываемой Будде формулой: "путь из родины в без-родинность" (цит. но кн.: Heiler F., Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttg., 1961, S. 385). Люди, вышедшие из "естественных" связей, образуют христ. элиту, к-рая выделяется с ранних времен ("девственницы", "совершенные"), а с 4 в. конституируется в монашество. Монашеский коллектив рассматривался его первыми теоретиками как анти-социум, где отменяется власть старых обществ. норм и создается возможность для реализации утопии (ср. описание Афанасием Александрийским посе-ления егип. монахов как "особой страны". "Здесь не было никого, кто совершал бы или претерпевал бы беззаконие, здесь ничего не знали о ненавистной докуке собирателя налогов" – Migne, PG, t. 26). На деле в ходе истории неоднократно выяснялось, что монастырь отнюдь не отгорожен своими стенами от действия экономич. законов общества, среди к-рого он существует, но, напротив, легко подключается к системе связанного с собственностью "беззакония" в его феод. или капиталистич. формах (особенно явственно это выступало в ср. века, когда монастыри играли роль крупнейших экономич. ячеек феод. мира). Однако мечта Афанасия о монастыре как прибежище совести и духовности в бессовестном и бездуховном обществе оживает в раннем францисканстве с его отвращением к собственности как источнику разобщения между людьми (см. Франциск Ассизский), у теоретиков древнерус. нестяжательства (Нил Сорский и "заволжские старцы") и т.п. Эта роль монашества в католич. и православном типах X. аналогична его роли в раннем буддизме. Однако X. есть религия не только отречения от мира, но и действия в мире, его центр. идеи связаны не с монашеством, но с общиной в целом, с церковью (здесь к X. типологически ближе буддизм махаяны). X. возможно без монашества (оно обходилось без него в первые три века и обходится без него в протестантизме), но немыслимо без идеи церкви, к-рая мыслится не только как земная реализация замысла бога, но – в качестве хранительницы коллективного "ортодоксального" опыта – как гносеологич. критерий познания бога: с т. зр. X., человек может адекватно распознать и воспринять откровение не как обособленный индивидуум, но внутри ситуации общения со всеми членами церкви, как живыми, так и умершими. На примере христ. понимания церкви наглядно прослеживаются общие парадоксы X. как миропонимания. Первый из этих парадоксов – одноврем. тождество и различие невидимой и видимой церкви (т.е. церкви как идеи и церкви как эмпирич. реальности). Невидимая церковь – это мистич. общность тех, кто через веру достиг единства с Христом; видимая церковь – это организация, в к-рую входят все, кто принял крещение, и во главе к-рой стоит формально построенная иерархия, независимо от личной святости или греховности ее членов. Невидимая церковь есть "церковь святых", видимая церковь есть "смешанное тело", объединяющее в себе праведников и грешников, святых и злодеев. Границы той и другой церкви явно не совпадают: как это формулирует Августин, "многие, по видимости стоящие вне (церкви), на деле находятся внутри, и многие, по видимости стоящие внутри, на деле находятся вне" (De bapt., 5, 27, 38). Однако, согласно учению, отстаиваемому ортодоксией на заре ее существования против монтанизма и донатизма, а ныне безусловно значимому для православия и особенно католицизма, и поколебленному лишь в протестантизме, в сектантстве и в рус. расколе, видимая церковь таинственно тождественна с невидимой: несовершенство видимой церкви есть та "немощь", внутри к-рой совершается "сила божия" – совершенство невидимой, духовной церкви. Второе противоречие – между идеей "вселенской" церкви, к-рая своим единством должна отменить к.-л. этнич. и гос. разделение человечества, и реальностью партикулярных церквей. Перед лицом этого противоречия остаются три выхода. Во-первых, можно приравнять одну из наличных церквей к вселенской и считать ее универсальность "сокровенно" реализованной в ее партикулярности (это характерно для совр. православия). Во-вторых, можно приравнять к вселенской церкви всю совокупность наличных церквей и считать ее единство "сокровенно" реализованным в разделении (доктрина старокатоликов и др.). В-третьих, можно отнестись к идеалу вселенской церкви как к надежде на будущее и цели действия (В. Соловьев, совр. экуменическое движение). Третье противоречие – между церковью и гос. властью, к-рое одновременно есть противоречие между "неотмирностью" церкви и устремлением к власти внутри нее самой. Переход христ. церкви, сформировавшейся в обстановке гонений как отрицание власти в самой ее идее, на положение гос. религии в 4 в. знаменовал собой тяжелый кризис. Возникает значимая для всего средневековья теология "священной державы", огнем и мечом насаждающей X., что означало коренной пересмотр первонач. установок. Ср.-век. развитие дает два типа церкви: визант. церковь как репрезентативный придаток к "священной державе" и римская церковь, сама претендующая на положение сверхдержавы. Так были выработаны стереотипы поведения, сказавшиеся позднее в процаристской позиции рус. правосл. духовенства и в политич. клерикализме зап. католич. духовенства. Протестантизм, сформировавшийся в борьбе с католич. теократией, дает в кальвинизме свой вариант модернизированной бурж. теократии, а в лютеранстве резко разводит пути политики и религии, подготавливая либеральный лозунг: "Религия – частное дело". Тенденции, оппозиционные эксплуататорской государст-венности, с 4 в. проявляются в деятельности отд. вождей ортодокс. церкви (Иоанн Златоуст), но чаще всего в различных ересях (самый яркий пример – Т. Мюнцер). Обществ. ориентация различных вариантов и проявлений X. была во все века его существования и остается до сих пор чрезвычайно противоречивой, выявляя внутр. двуполярность христ. мировоззрения. Такова предельно обобщенная (и потому неизбежно условная) схема идейной структуры X., с различной степенью отчетливости прослеживающаяся в пестром и противоречивом многообразии историч. вариантов христ. мировоззрения. С. Аверинцев. Москва. X., как тип социальной идеологии и организации, наложило глубокий отпечаток на обществ.-политическое, нравственное, интеллектуальное и художеств. развитие европ. и мировой культуры. При оценке этого наследия следует принимать во внимание значение диссидентских и секуляризованных его элементов, равно как и антицерк. течений, выросших на почве X. Способность X. не только пережить непосредственно породившие его историч. рамки, но и выступить в качестве одного из активных факторов организации идеологич. форм в различных социальных условиях существенно отличает его от "племенных и национальных" (Ф. Энгельс) культовых систем, неизменно исчезавших вместе с гибелью соответствующих социальных образований. X. допускает активное отношение человека к миру и обществ. формам, что обусловлено такими его чертами, как: 1) универсальность проповеди, не связанной с к.-л. политич. и этнич. рамками, 2) обращение к личности как субъекту культового отношения и носителю историч. ответственности перед абсолютом, 3) требование активного (при всем историч. и типология, различии его форм) индивидуального оправдания человека, составившее основу историзма христ. миропонимания. Основываясь на разграничении священного и светского миров (призыв "быть в мире, но не от мира сего", "два Града" и т.п.), идеология X. содержала и лозунг спасения человеческого мира, создавая тем почву для идей направленного этич. и социального прогресса. Та же трансцендентная, внемировая ориентация X., к-рая отделила его теодицею от примитивных натурфилос. построений, сыграла свою роль в историч. формировании представления о сверхсоциальной сущности и ответственности личности, что содействовало преодолению рамок наличной социальной организации. Культурное значение X. определилось прежде всего тем, что через его "посредничество" в Европу пришел средиземноморский синтез античных и вост. социально-религ. форм, что именно X. на протяжении столетий обеспечивало культурное единство Зап. Европы, на фоне к-рого развертывались как военно-политич., так и филос.-теология, драмы средневековья. Особо следует подчеркнуть влияние "персоналистской" мифологии и иконографии X. на судьбы европ. иск-ва, в т.ч. на восприятие им антич. наследия. X. вызвало к жизни разнообразные формы социальной организации культа. Разработанная в свое время Трёльчем типология религ. организации X. ("церковь" – широкая, универсальная, примиряющаяся с обществом; "секта" – замкнутая группа избранных, противостоящих миру; "мистика" – неорганизованная религиозность) фиксирует крайние позиции в историч. многообразии этих форм. В эту схему не могут быть уложены религ. движения (мессианистские, пророческие, мистические, эсхатологические, хилиастические, реформационные, еретические и др.), принимавшие одну из интерпретаций вероучения и культа и создававшие специфич. типы лидерства, групповых норм и др. При всем многообразии историч. ролей, в к-рых выступали отд. типы христ. организаций и движений, здесь могут быть отмечены наиболее существенные моменты. Не выступая прямо против императорского Рима и рабовладения, X. внесло свой вклад в их дискредитацию и разложение уже тем, что противопоставило "временным" земным учреждениям трансцендентную ориентацию. Характерные для вост. и зап. ветвей X. отношения с политич. организацией общества ("цезаро-папизм" и "папо-цезаризм") оказали существенное влияние на формирование и судьбы феод.-крепостнич. иерархий в соответствующих гос-вах. X. давало идеологич. форму социальным движениям средневековья, раннебурж. гуманизму, а затем и первым бурж. революциям (в Англии, отчасти в США); особенно важен вклад Реформации в формирование системы бурж. отношений. Тезис М. Вебера о том, что "мирской аскетизм" кальвинизма сыграл решающую роль в становлении "духа капитализма" (приобретательство, стремление к умножению богатства), неоднократно оспаривавшийся (Л. Брентано, А. Фанфани и др., см. Ф. Капелюш, Религия раннего капитализма, М., 1931), несомненно фиксирует один из важных факторов бурж. развития. Если ранние формы социально-реформаторских и социально-утопич. течений искали своего оправдания в X., пытаясь придать конкретно-социальное значение проповеди спасения, позднейшие, зрелые формы рабочего и социалистич. движения опирались на традиции светской рационалистич. мысли, сознательно противопоставившей себя религ. формам. Для совр. X. характерно широкое распространение различных течений "социального" X., ищущего контакта с рабочим, антиколониальным, антивоенным, женским и др. прогрессивными движениями. Это не только демонстрирует потенциальную лабильность социальных позиций X., но в принципе ведет к изменению самих способов его социального существования. В период формирования X. происходила институционализация культовой общины в церковь, в дальнейшем – более или менее полное слияние последней с гос. иерархией феодализма. Наибольшее развитие организации и наибольшие претензии институцион. форм X. приходятся на эпоху начавшейся дезинтеграции церкви и др. форм обществ. организации (предреформацион. движения, Реформация и контрреформация). Именно в этот период формируется тотальная духовная "диктатура церкви" (см. Ф. Энгельс, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20, с. 346), опиравшаяся на инквизицию в католицизме и "внутреннюю инквизицию" строжайшего идейного контроля у Кальвина, у пуритан. Последующая адаптация X. к условиям бурж. развития, секуляризации гос-ва, права, морали тесно связана с относит. повышением удельного веса его неинституционализированных диффузных форм влияния на обществ. сознание. Кризис ценностей в "массовом обществе", а также преследования X. со стороны реакц. тоталитаризма (нем. фашизм) в определ. мере способствовали развитию этических, пацифистских и социально-прогрессивных интерпретаций миссии X. Ю. Левада. Москва. Лит.: Энгельс Ф., О первоначальном X., М., 1962; Фейербах Л., Сущность X., М., 1965; Андреев Г. Л., X. и проблема свободы, М., 1965; Гарнак Α., Сущность X., в кн.: Общая история европ. культуры, т. 5, СПБ, [1911]; его же, История догматов, там же, т. 6, СПБ, [1911]; Nygren A. Th. S., Eros und Agape. Gestaltwandlungen der christlichen Liebe, Bd 1–2, Gütersloh, 1930–37; Wood H. G., Christianity and the nature of history, Camb., 1934; Otto R., Reich Gottes und Menschensohn, Münch., 1934; Nigg W., Der christliche Narr, Ζ.–Stuttg., 1956; The Oxford dictionary of Christian Church, ed F. L. Cross, L., 1957; Wagner H., Der Mythos und das Wort. Ein Beitrag zur Frage der Verkündigung fur den gegenwärtigen Menschen, Lpz., 1957; Schweitzer A., Das Christentum und die Weltreligionen, Münch., 1962; Ρoulat. Ε., Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste, [P.], 1962; Patrides С. A., The Phoenix and the ladder. The rise and decline of the Christian view of history, Berk.–Los Ang., 1964; Mascall Ε. L., The secularisation of Christianity. An analysis and a critique, L., 1965; Evolution du christianisme, P., 1965; Bates F.V. Ν. Η., Christianity and cosmopolitan civilization, Boston, 1966. Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970.


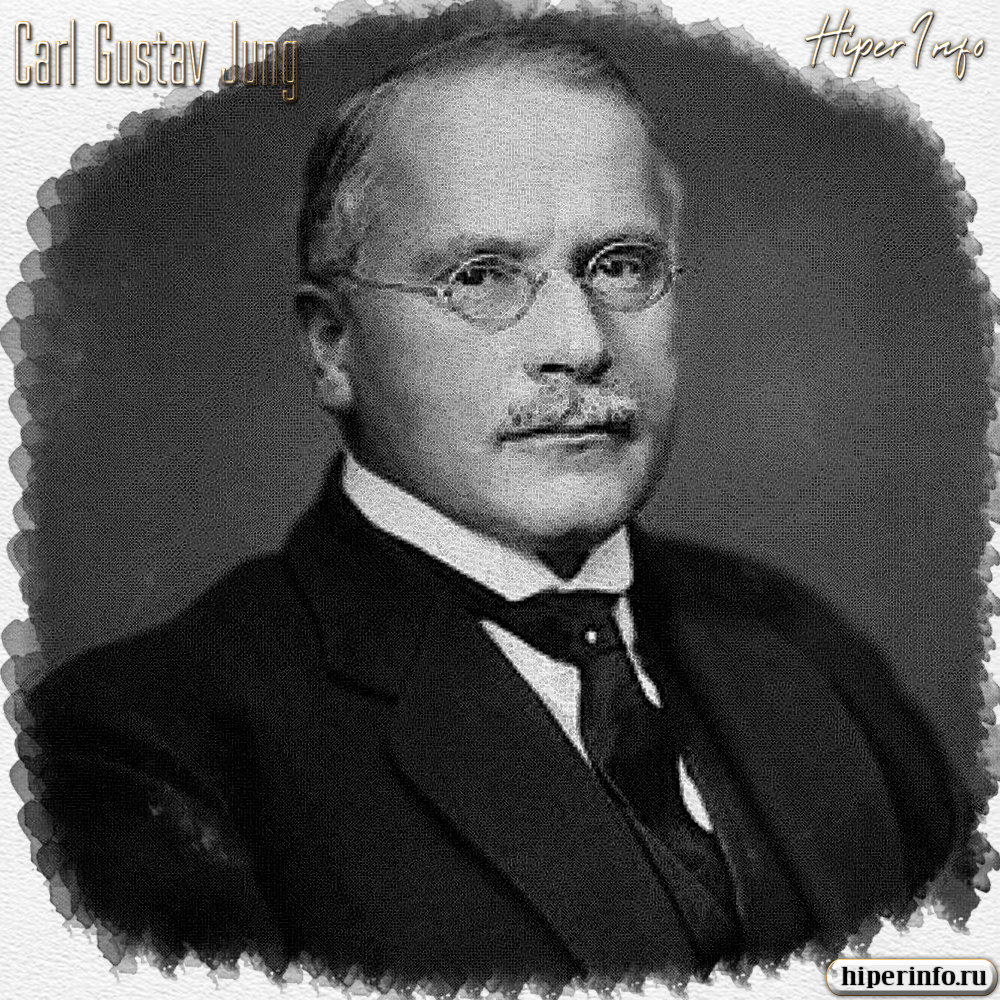

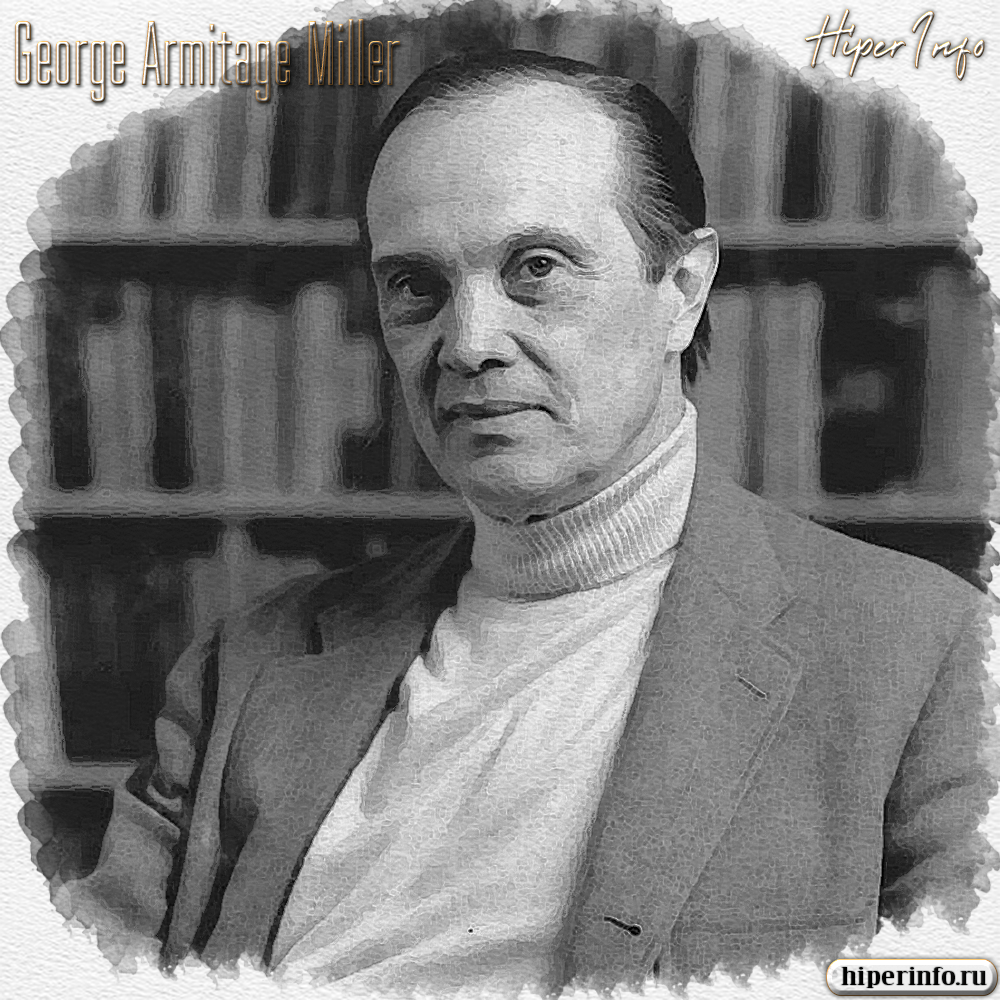


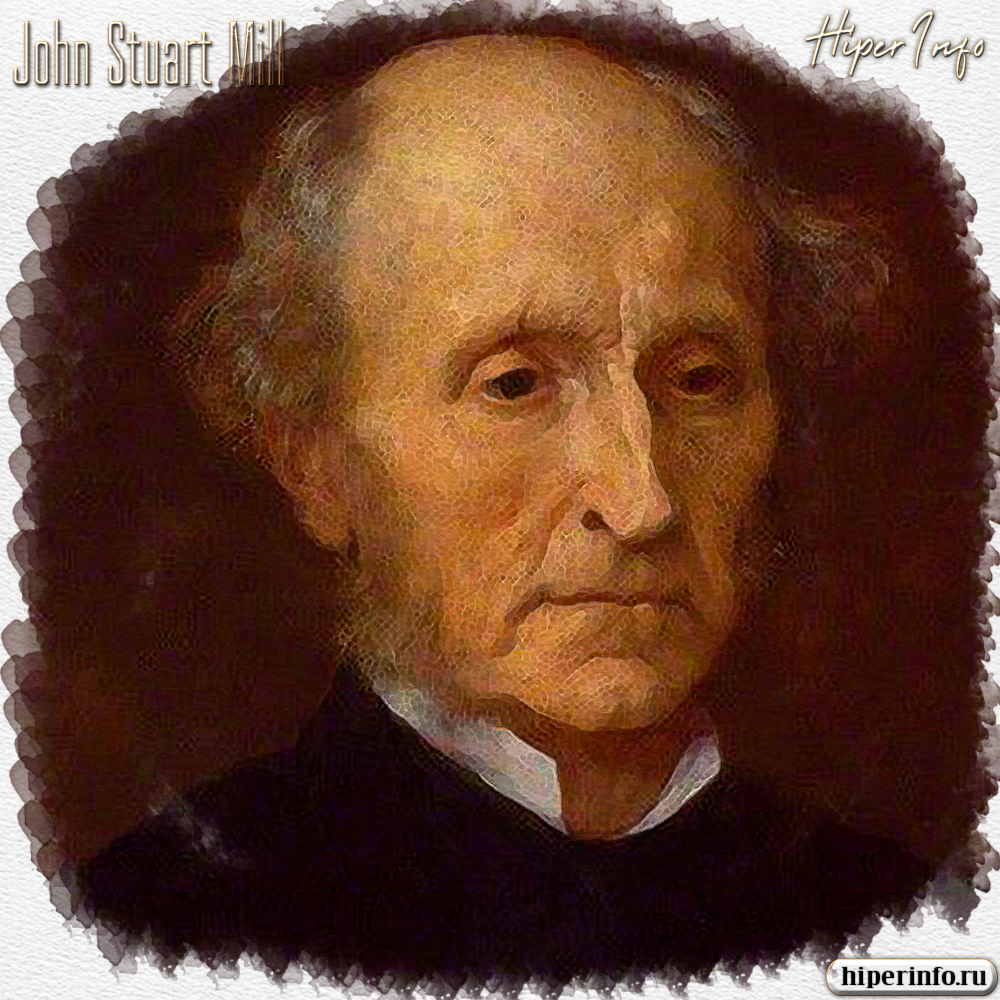
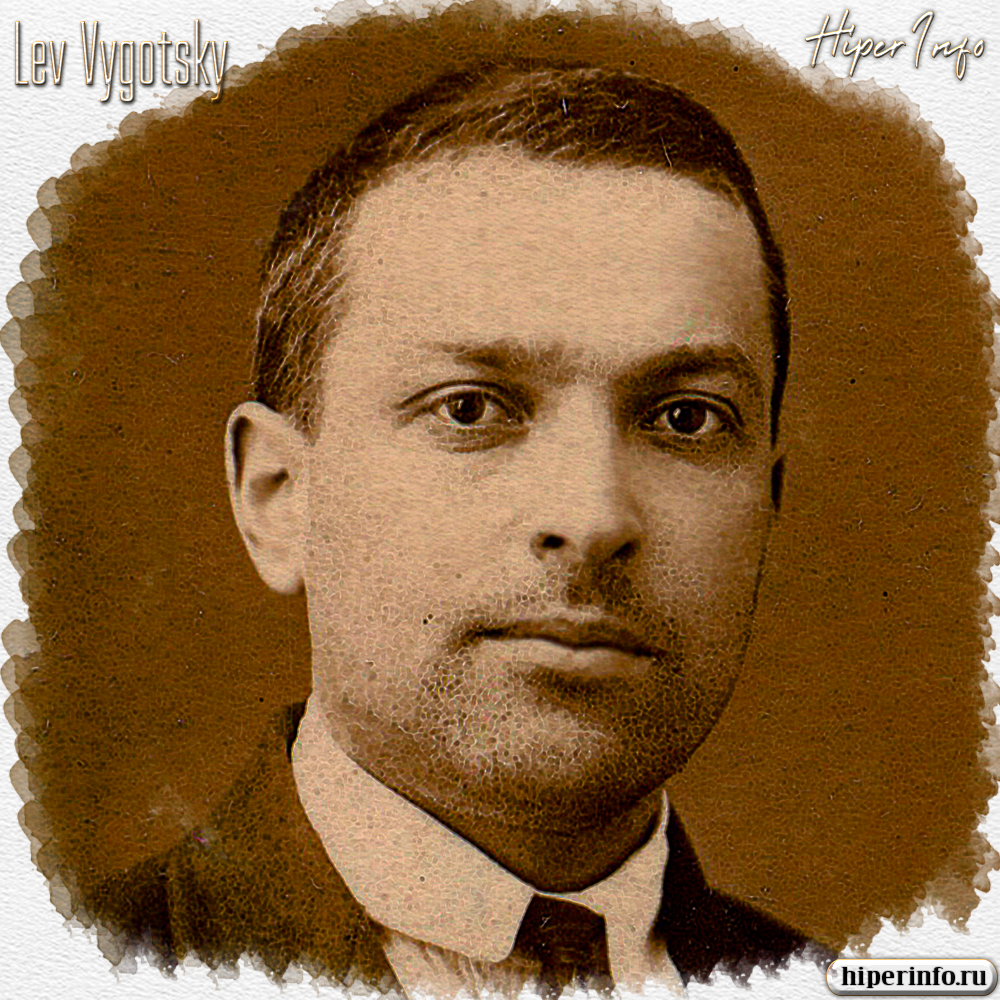

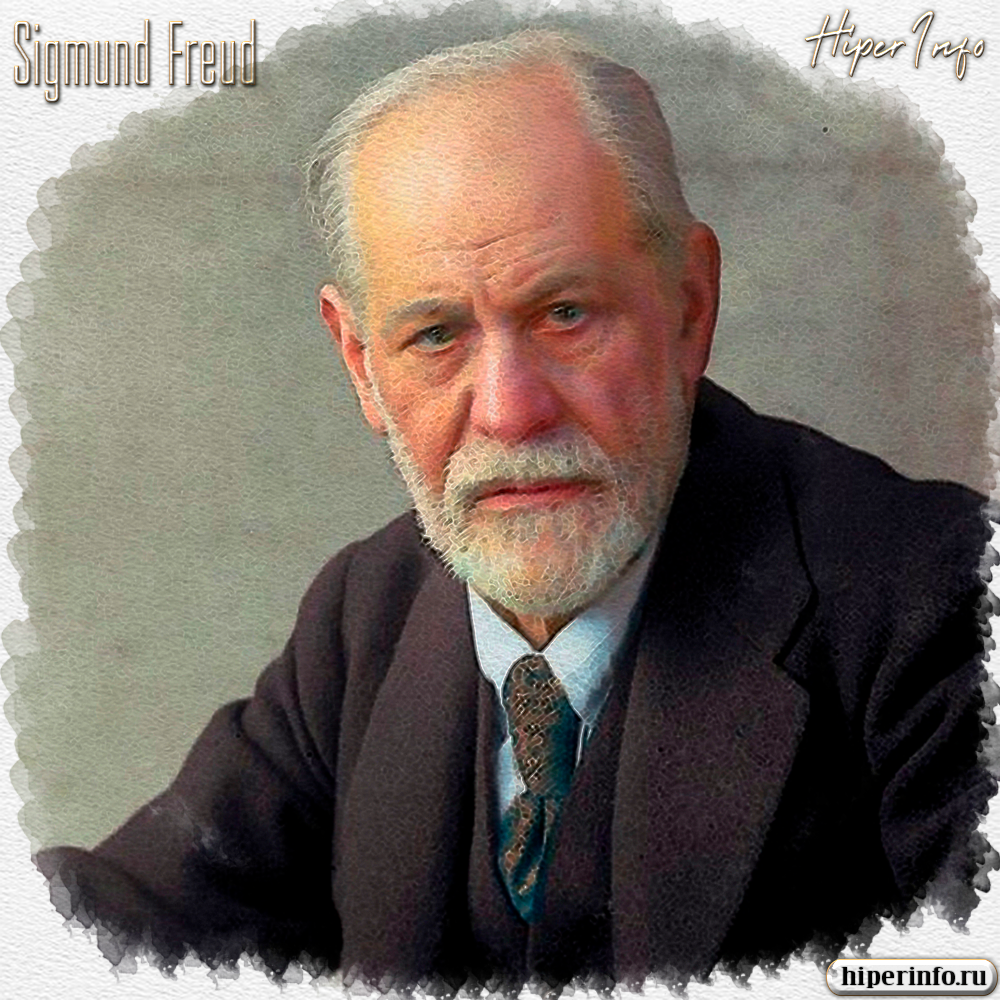
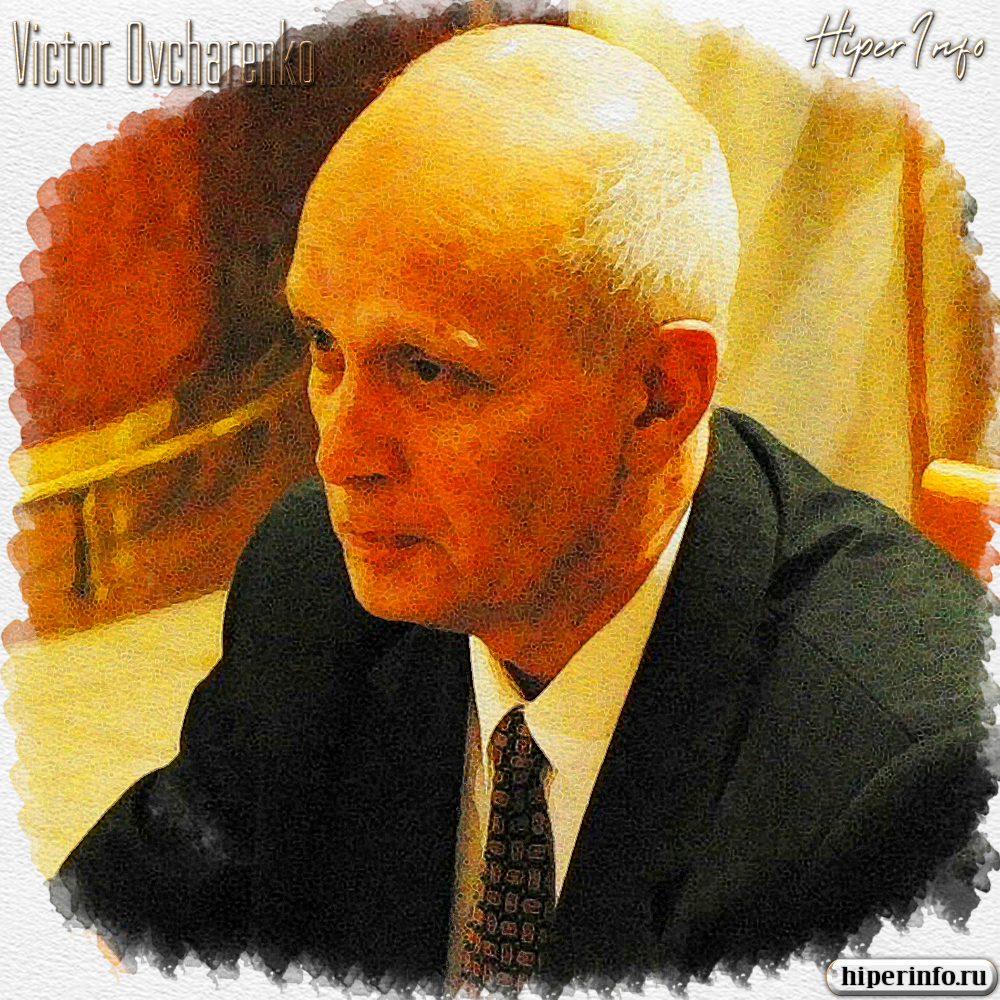

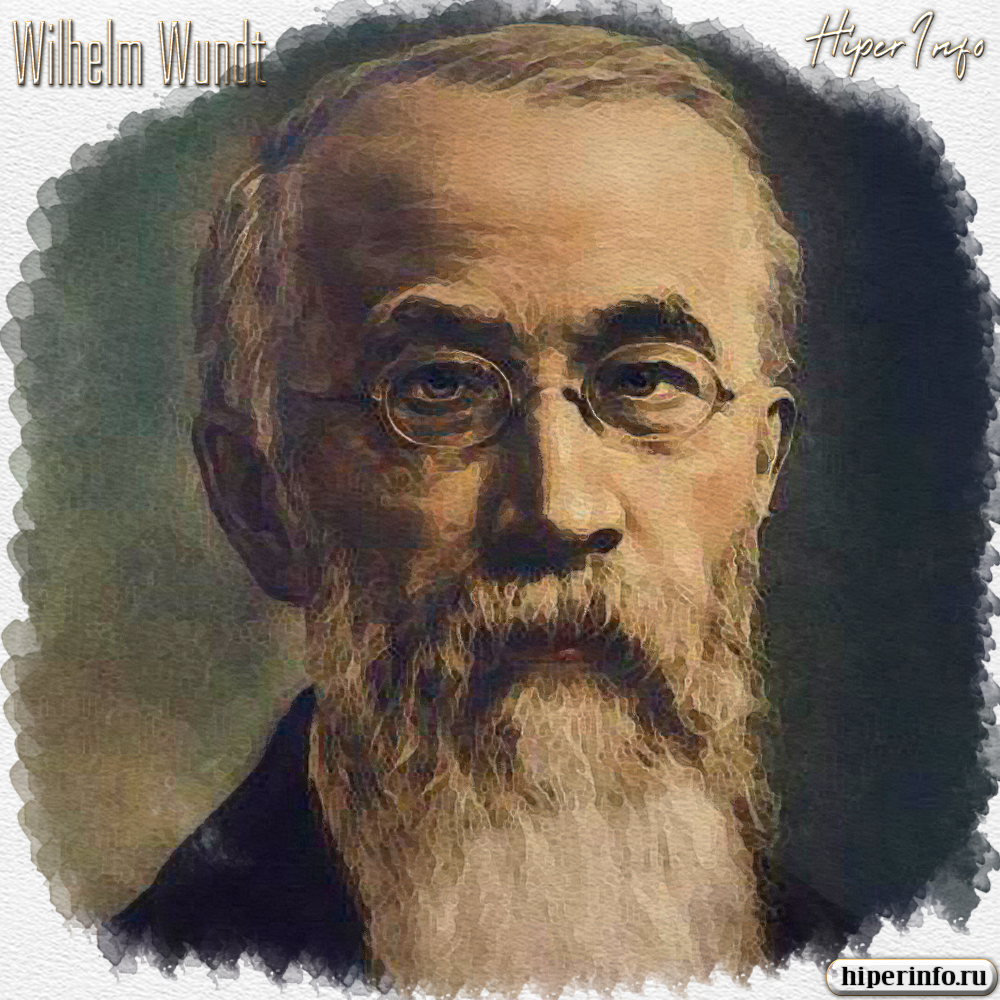
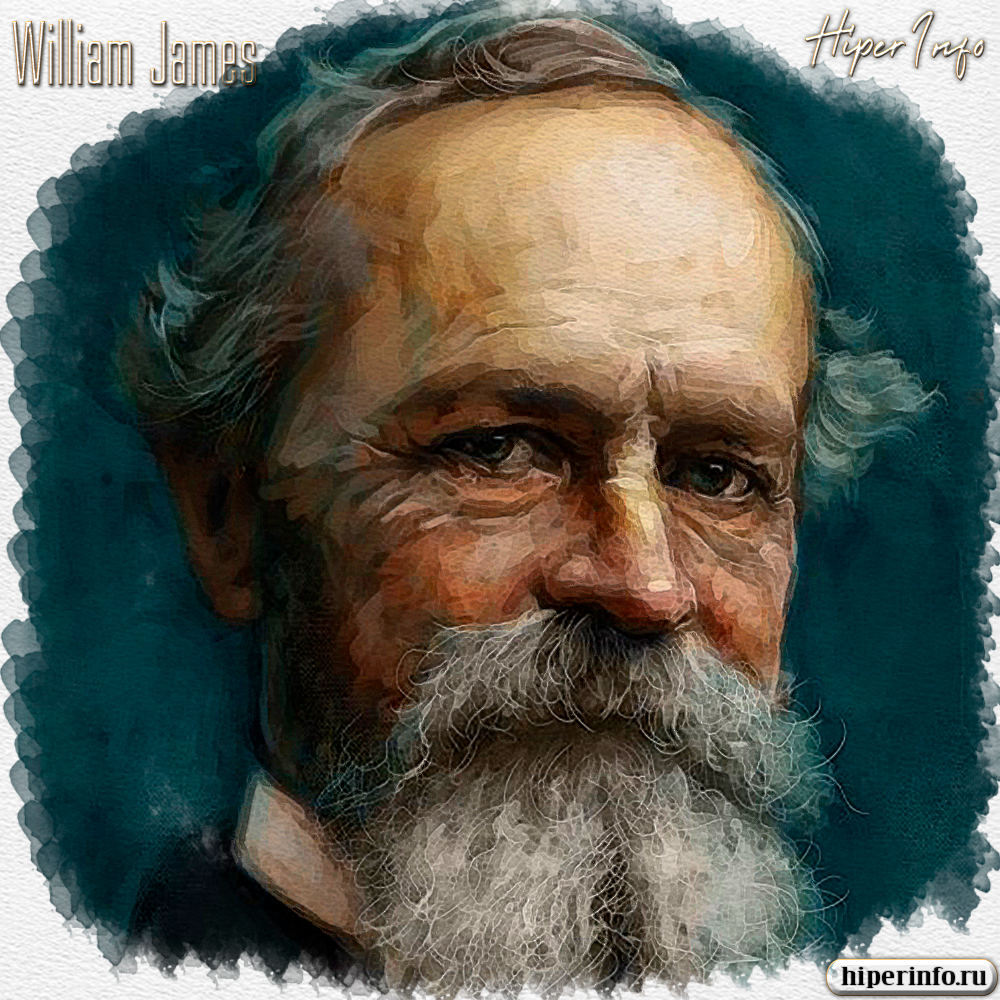


Психология (5)\Психология (3)\Психология (2)\Психология (1)\Психология (4)
Психология (6)\Психология (7)\Психология (8)\Психология (9)\Психология (10)

МИФОЛОГИЯ
СИЛА И МУДРОСТЬ СЛОВА

ФИЛОСОФИЯ | ЭТИКА | ЭСТЕТИКА | ПСИХОЛОГИЯ | РИТОРИКА

ЛЮБОВЬ | ВЛАСТЬ | ВЕРА | ОБЛАДАНИЕ И БЫТИЕ | НИЦШЕ \ ЛОСЕВ \ СОЛОВЬЕВ \ ШЕКСПИР \ ГЕТЕ




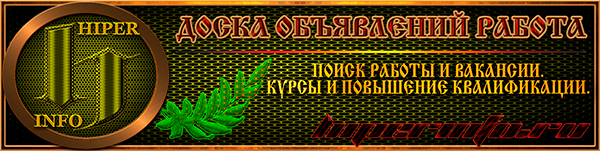

РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ
ADVERTISE YOURSELF COMMENT

















ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО
( POST FREE ADS WITHOUT REGISTRATION AND FREE )



ДОБАВИТЬ САЙТ (БЛОГ, СТРАНИЦУ) В КАТАЛОГ
( ADD YOUR WEBSITE WITHOUT REGISTRATION AND FREE )

Похожие материалы
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.












